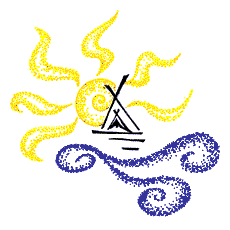|
Песнь первая
Светлей огня —алыпа (1)
лик.
Народ в стране его — велик,
Миролюбив и светлолик,
Красноречив, остроязык —
Заполнил солнечный Алтай
И перелился через край,
Живет, не ведая нужды,
Глаза любого — две звезды.
Как белый утренний туман —
Дыханье статного коня.
В траве долин, в тиши полян
Под солнцем ласкового дня
Пасется разномастный скот,
По склонам с топотом идет.
Стада, отары, табуны —
Неисчислимы и шумны,
Как будто летние кусты,
Листвой покрытые,— густы.
И семьдесят счастливых лет
Земли Алтая мирный свет
Хранит алып Маадай-Кара,
Неколебимый, как гора.
Всё — от высот Черет-Чемет
До склонов Чеметен-Туу,
Где злых снегов и ливней — нет,
Где круглый год земля в цвету,—
Владения Маадай-Кара,
Вместилище его добра.
Здесь, у слиянья синих вод,
В стоуглой юрте он живет.
Неисчислим его народ,
Несчитан разномастный скот.
Где воедино бурный бег
Сливают семь десятков рек,
В долине — лучшей из долин —
Стоит великий бай терек (2)
—
Стоствольный тополь-исполин.
И ухо высунет едва
Широкоскулая луна —
Как серебром звенит листва,
Как блещет золотом она.
Семиколенный бай терек
Оброс листвой, как днями век.
Под каждою из ста ветвей
Укроется табун коней.
На верхней ветви золотой,
Окружены листвой густой,
Кукушки вещие сидят,
Пути грядущего следят.
Звонкоголосые, они
Предвидят будущие дни,
И радуют вещуньи тех,
Кому сопутствует успех.
Печалят тех, кому судьба
Ютиться в шалаше раба.
Начнут кукушки куковать,
С золотолистой высоты —
Пойдут в долинах расцветать
Небесно-синие цветы.
Так, глядя в будущие дни,
Живут на тополе они.
В средине тополя того,
На ветке бронзовой его,
Два черных беркута сидят,
В глубины трех небес глядят,
За край земли бросают взгляд,
Пути и тропы сторожат,
Чтобы покой родной земли
Враги нарушить не смогли.
От их дыханья на ветвях
Звенит, колышется листва,
Их клекот слышится в горах,
Отсюда видимых едва.
У основания ствола,
Чтоб нечисть злая не смогла
Пройти, вселить в народы страх
Сидят на кованых цепях,
Шулмусам (3)
тропы заступив,
Путь Эрлик-бия (4)
преградив,
Два черных пса сторожевых —
Тайгыла (5),—
неусыпно злых.
Алыпу верен пес Азар,
Алыпу предан пес Казар,
Кровавоглазые, они,
Клыками клацая, лежат
В злато-серебряной тени,
Алтая земли сторожат.
Тут славный аргамак (6)
стоит,
Ветвями от жары укрыт.
Живою вспоенный водой,
На пышных вскормленный лугах,
Покрытый шерстью золотой,—
Могучий конь Карыш-Кулак,
Чья грива, будто водопад,
Струясь, колышется, густа,
Чьи, укрывая след, висят
Сто прядей длинного хвоста.
Летит огонь, рокочет гром
От стука четырех подков,
И лунно-солнечным тавром
Скакун помечен с двух боков.
Глаза прекрасные черны,
Как при затменье две луны,
Глядят на обе стороны,
И все дороги им видны.
Всех обгоняющий коней,
Сильнее прочих скакунов,
И целых табунов ценней —
Алыпа аргамак таков.
Горой на берегу речном
У девяти гранитных скал
Аил (7)
в сиянье золотом
Стогранный каменный стоял.
Близ входа в каменный дворец
Литая коновязь была,
Ее серебряный конец
Глубь поднебесья приняла,
Другая коновязи часть
В мир подземельный уперлась.
В подземном мире — Айбыстан(8),
В заоблачном — Юч-Курбустан (9),
Властители подводят к ней
Своих божественных коней.
А промежуточная часть,
Где вязь узоров растеклась
В спокойном свете серебра,—
Принадлежит Маадай-Кара.
За стенами гранитных глыб
В аиле каменном своем
На медном ложе спит алып,
Объятый многодневным сном.
На одеяле — солнца лик,
Кошма — украшена луной,
Не пробуждаясь, спит старик,
Извечно правивший страной.
Лежал он семьдесят ночей,
И сделались виски белей.
Храпел он восемьдесят дней,
И разум сделался темней.
Его жена Алтын-Тарга
Сидит одна у очага.
Лунообразное лицо
Сияет — золота светлей,
Солнцеобразное лицо
Белеет — серебра светлей.
Ясней рассвета — свежесть щек,
И чистый лоб, как холм, высок.
Нагрудник, словно небосвод,
В богатой россыпи камней.
Звезда вечерняя взойдет
И тихо гаснет рядом с ней.
Алтын-Тарга встает, идет
Взглянуть: все так ли без забот
В долинах пышных бродит скот,
Все так ли весело живет
В достатке радостный народ.
Алыпа славная жена,
Взглянув, была поражена:
Упадок всюду и разброд —
Разбрелся разномастный скот.
Идут передние стада,
Траву съедают до корней.
Плетутся задние стада
И лижут землю меж камней.
С долин Алтая стар и мал
За тридцать гор откочевал.
Без предводителя народ.
Враждует ныне с братом брат.
Кто впереди других идет,
Удачлив, жирен и богат.
Кто позади других бредет,
Объедкам рад, обноскам рад.
Алтай, который светлым был,
Подернут пепельною мглой...
Алтын-Тарга вошла в аил
И длинной острою иглой
Алыпа колет, гонит сон:
«Проснись, ты слышишь тяжкий стон?
Вставай, ты слышишь дикий рев?
Беда идет со всех сторон —
Народ покинул отчий кров,
Теперь кочует без конца,
Семья осталась без отца,
Без предводителя народ,
Без пастуха остался скот!»
Алып проснулся, с ложа встал,
Из юрты выглянул своей,
Огладив голову, сказал:
«Проспал я восемьдесят дней,
Рассудок, что ли, потерял?
Проспал я семьдесят ночей,
Совсем я старым, что ли, стал?
И сам не знаю, что со мной,
Как навалился сон такой?»
Берет из рук Алтын-Тарги
Алып, восставший ото сна,
И надевает сапоги
С подошвами из чугуна.
И надевает шубу он
На горностаевом меху —
Стоит воитель облачен
В солнцеподобную доху.
Он надевает боевой
Тяжелый бронзовый шелом
С луноподобною звездой,
В узоре тонком золотом.
Широким поясом своим
Стал опоясываться он —
По тяжким бляшкам золотым
Свет солнца пляшет — отражен.
Поверх одежды дорогой
Надел он панцирь боевой,
Сказал жене Маадай-Кара:
«В дорогу трогаться пора.
В шести мешках неси еду,
Края Алтая обойду,
Остановлю, поставлю скот
В траве высокой и густой,
Верну и поселю народ
Там, где в достатке сухостой».
Сказавши так, алып-старик
Потряс узорною уздой,
И, тут как тут, пред ним возник
Карыш-Кулак темно-гнедой.
Он на скаку хватал траву,
Он стриг ушами синеву,
Литая грудь его — крута,
Стена зубов его — бела,
Спина с макушки до хвоста
Блестит, обширна и светла.
Маадай-Кара коня взнуздал,
И снаряжать в дорогу стал:
На белооблачный потник
Широкий, точно летний луг,
Кладет седло алып-старик,
Затягивает сто подпруг.
Так аргамака заседлал.
Сам снаряжаться воин стал:
На крепко сложенной спине
Надежно укрепил свое
Он, закаленное в огне,
Безлунно-черное копье.
На мощный пояс боевой
Зеленоватый меч стальной
Непритупляющийся свой
Он прикрепил и лук надел.
Колчан его крылатых стрел
Окован бронзою, широк —
Тут угнездятся сто сорок.
На опоясье с двух сторон
Усесться смогут сто вором.
Сияет лезвие меча,
Копья сверкает острие...
Но аргамака облача,
Надев оружие свое,-—
Маадай-Кара главой поник,
Стал горько сетовать старик:
«Конь постарел темно-гнедой,
Годится только на убой.
Азар мой слеп, беззуб Казар,
И я, седоголовый, стар.
Нет у собак моих щенка,
У нас с женою нет сынка.
И голова у старика
Была — как ворона крыло,
Теперь — белее молока,
Ее снегами занесло.
Теперь клыков моих клинки
Пообломались, как сучки,
Подобный утру, свежий ум —
Теперь и мутен, и угрюм.
Лишь тень моя бредет за мной,
Когда я оглянусь назад.
Поглажу голову рукой —
Лишь уши старые торчат...»
Хоть горько сетовал алып,
Роняя тяжкие слова,
Он был мощнее горных глыб:
Скалой вздымалась голова,
Две синих утренних звезды —
Глаза всевидящи, мудры,
В густом урмане бороды
Мечи зубов его — остры,
Мрак черно-бархатных бровей,
Ресницы — ели в куржаке,
Лицо — маральника (10) красней,
Свет радуг летних на щеке.
На пояснице место есть
Двумстам отарам разойтись,
На крепко сложенной спине —
Стадам бесчисленным пастись.
Ни разу кровь его, светла,
Алея, наземь не текла.
Душа за долгие года
Не прерывалась никогда.
Плоть — несгибаема, тверда,
Язык — как пламя в мраке рта,
Из камня сделана гортань.
Его не трогала, пуста,
Кезеров (11)
злоязыких брань,
Плечистый недруг не давил,—
Алып непобедимым был.
Карыш-Кулак темно-гнедой
Его создатель дух воды.
Маадай-Кара алып седой —
Его создатель дух горы.
Хранил народы от беды
Он с незапамятной поры.
И потому алыпа знал
В краю Алтая стар и мал.
Им огражденная от зла
Страна спокойная жила.
«Ээй, ээй! Теперь вперед!
Отныне буду свой народ
Я постоянно наставлять,
И станет мирным он опять.
Среди охот, среди забот
Не буду свой бессчетный скот
Я без присмотра оставлять,
И станет тучным он опять».
Встал богатырь на стремена
Из кованого чугуна,
От стойбища к закату дня
Направил верного коня,
И аргамак темно-гнедой
Помчался красною стрелой
Над черной горною грядой,
Под белой облачной горой,
Перемахнул во весь опор
Подмышки высоченных гор,
Лопатки поднебесных гор,
Макушки невысоких гор,
И девяносто бурных рек
В единый мах перескочил.
Едва заметен бай терек
И каменный дворец-аил.
Тут, на коричневой горе,
Чей гребень в снежном серебре,
Встал, как скала, темно-гнедой,
Глаз солнца заслонив собой.
Такой простор с горы открыт,
Что, возникая как стрела,
Алыпа взгляд к земле спешит
И превращается в орла.
Летит орел, и слышит он
Не горький плач, не тяжкий стон -
Веселый шум со всех сторон:
Пируют шестьдесят племен
По всей земле его родной,
Гуляют семьдесят племен,
Поет и пляшет шумный той (12)
.
Где малым детушкам играть —
Шелка постелены, играй.
Где милым девушкам ступать —
Шелка растянуты, ступай.
В долине тихой Ойгылык
Звучанье песен озорных,
В долине светлой Кыйгылык
Движенье плясок круговых.
Белеют сала-облака,
Мясная высится гора,
Не иссякает арака (13)
,
И от утра и до утра
Не умолкает шумный той
В стране алыпа золотой.
День ото дня все веселей
Той длится восемьдесят дней.
Худые псы — овец жирней.
Пир длится девяносто дней,
Рабы — властителя вольней.
Пирует весь его народ,
И в беспорядке бродит скот.
Услышав шум, увидев той,
Алып качает головой:
«Пируют все мои края,
Гуляет каждая семья.
В былые годы мой народ
Венчал весельем честный труд,
Зачем теперь он в будни пьет,
И в честь чего пируют тут?
Неужто близок страшный час,
И арака в последний раз
Пьянит седых и молодых,
И ожидает смерть одних,
Плен унизительный — других? »
Он книгу мудрую достал —
Узнать пути-причины бед,
И всю ее перелистал —
Ответа в лунной книге нет.
Не знает мудрая сутра (14)
—
Кто победит Маадай-Кара.
Седою головой поник,
Сидит и думает старик:
«Я знаю: где и кто живет,
Все племена наперечет,
Алтая и соседних стран
Известен мне любой каан (15).
Я — старший, верх над ними взял,
И никогда я не встречал
От давних юношеских дней
Кезера, что меня сильней.
Быть может, угрожает мне,
На сером ездящий коне
Кезер Кара-Кула каан —
Кровавоглазый великан?
Сюда не он ли держит путь?
Его боялся я чуть-чуть,
Когда мне было десять лет,
Ужель теперь, когда я сед,
Алтай решил он разорить
И мой народ поработить?»
Маадай-Кара взглянул туда,
Где тень бросает на стада
У серо-пепельной горы
Железный тополь без коры;
Где голая, как кость, земля,
Как череп, голые поля,
Где слышится смертельный стон,
Где кровяной течет туман,
И где кааны ста племен
Бредут с дарами на поклон,
А злой Кара-Кула каан
Пьет кровь живую ста племен.
Озера крови выпил он,
И сотни сотен съел людей
Лишенный жалости злодей.
Из темноты земных глубин
Железнокостый исполин
Насильно взял Эрлика дочь —
Шаманку черную, как ночь.
В стране, где гор железный свет,
Он с ней живет уже семь лет.
Любимице Эрлика злой
Про все известно наперед,
Сидят шулмусы под землей —
Ее бесчисленный народ.
И видит все Кара-Кула,
Что на земле скрывает мгла.
Решил он нынче — навсегда
Алтайский мир развеять в прах,
Аилы сжечь, угнать стада,
Повсюду сея смерть и страх.
И думает Кара-Кула:
«Чья голова, как снег, бела,
Кто ест и пьет из серебра,
Не много ли скота-добра
Имеет он — Маадай-Кара?
Богатство захвачу его,
Рабами сделаю людей,
Пленю алыпа самого»,—
Угрюмо думает злодей.
Он семьдесят один тумен (16)
Кезеров за собой ведет.
И шестьдесят один тумен
Собрал он воинов в поход.
Как дым густой — его народ,
Как стая воронов — войска,
Зайсаны (17)
— точно волки злы.
Как два кровавые куска —
Глаза каана тяжелы.
Шесть дней орда его в пути,
За нею стойбища пусты,
Кровь движется по руслам рек,
На шапках гор — кровавый снег.
Смрад изо рта его коня
Наполнил тьмой сиянье дня.
Жар мясоглазого лица
Наполнил ужасом сердца.
Каан сто гор перевалил,
Сто гор осталось перейти.
Алтай, отеческий аил,
Враги к тебе на полпути!
Как небо в час предгрозовой,
Тут помрачнел алып седой.
Не плакал он две сотни лет,
И страха не было и нет,
Но затмевающую свет,
Длиной с утра и до утра,
Несущую стране беду,
Увидев страшную орду,
Заплакал тут Маадай-Кара
У гор и солнца на виду:
"Коль стар мой конь темно-гнедой,
И сам я старый и седой,
Ужель погибнет мой народ,
И белый скот под нож пойдет?
Карыш-Кулака моего
Неужто недруги убьют?
Меня неужто самого
В неволю злую уведут?»
Слеза алыпа рассекла
Тридцатислойную скалу,
Аржаном (18)
чистым потекла
Сквозь можжевеловую мглу.
И, поглядев с гранитных скал,
Печально богатырь сказал:
«Коль суждено погибнуть мне,
Погибну я в родной стране,
Где матерь — бурая гора,
Где коновязь из серебра,
Где у слиянья синих рек
Стоит высокий бай терек,
Где ждет меня у очага
Моя жена Алтын-Тарга,
В стране, где солнечный восход,
Где лето вечное живет,
В краю, где чистые снега,
Где неоглядная тайга,
Где спрятана душа моя,
Алтай умрет — погибну я.
Коль жить еще мне суждено,
То жить с народом заодно.
Я буду до последних лет
Делить с Алтаем тьму и свет.
В долины светлые спущусь,
К земле родимой возвращусь».
И, на восход пустив коня,
Он прибыл ровно за три дня,
Качаясь, как больной, в седле,
К своим горам, к родной земле.
Когда коня остановил
Алып — печален и устал,—
Увидел: край прекрасным был,
Теперь еще прекрасней стал.
Шумит вода, растут леса,
Звенят, перелетая в них,
Как колокольцы — голоса
Кукушек вещих золотых.
И златокаменный Алтай,
Его необозримый край,
Согретый светом ясных дней,
Алыпу стал еще родней.
Его встречают стар и мал.
Закончил долгий той народ.
И многочисленнее стал
В долинах разномастный скот.
Пар—из ноздрей, из глаз—огонь,
Клыкастый встрепенулся конь,
И, как широкая заря,
Зажглось лицо богатыря.
Тут коноводов пятьдесят
Бегут коня его встречать,
Спешат алыпов шестьдесят,
Чтоб под руки каана взять.
Стоят его зайсаны в ряд,
Одновременно говорят:
«Возвеселись, каан родной!
Умножен род могучий твой —
В узорной люльке золотой
Лежит новорожденный сын,
Светлей, чем снег твоих седин,
Алтын-Тарга тебя ждала
И сыну имя не дала».
Алып, встречавших отстраня,
Промолвил: «Чем вести коня,
Вы лучше принесите мха —
Теплей, чем зимняя доха,
Пушистей летних облаков.
Нарежьте тонких тальников».
И шестьдесят алыпов в ряд
К далеким мшанникам спешат,
И коноводов пятьдесят
К таловым зарослям летят.
Маадай-Кара каан седой,
Откинув полог золотой,
В раздумье тягостном вступил
В свой каменный дворец-аил.
На шестигранный острый меч
Он опирается с трудом,
И, падая с поникших плеч,
Доспехи грохают, как гром.
Роняет наземь он из рук
Потник, широкий, словно луг,
И плеть роняет исполин,
Как реку в зелени долин.
Взглянув на мужа своего,
Жена была поражена,
Таким супруга своего
Еще не видела она:
Его луноподобный лик
От злого горя почернел,
Его солнцеподобный лик
От тяжкой думы помрачнел.
Насуплена, как туча, бровь,
В озерах глаз разлита кровь.
Бросает он тревожный взгляд,
Сжимая так зубов клинки,
Что искры белые летят
И раскаленные куски.
И — не широкая заря —
Пожар губительный лесной
Объял лицо богатыря,
Подернул дымкой кровяной.
Растерянно Алтын-Тарга
К нему идет от очага:
«Мой богатырь, алып родной,
Души моей надежный свет,
В любви, в согласии с тобой
Мы прожили немало лет.
Когда с охоты иль с войны,
Из чужедальней стороны
Ты возвращался в свой аил —
Веселым и счастливым был.
И в час любой, как лунный свет,
После удач, после побед,
Открыто, чисто и светло
Сияло доброе чело...
Я родила тебе сынка.
Так почему печаль-тоска
В душе алыпа велика,
В глазах тревога глубока?»
Маадай-Кара, войдя в аил,
Сел на кошму у очага,
Жену печальную спросил:
«Ээй, ээй, Алтын-Тарга,
На теле мальчика примет
Каких-нибудь случайно нет?»
Ему ответила жена:
«Приметы есть, и не одна:
Между лопатками как раз,
Величиной с овечий глаз,—
Она сказала,— есть пятно,
Коричневатое оно.
Грудь золотая у него,
Зад у сынка из серебра...»
«Пятно? А больше ничего?» —
Опять спросил Маадай-Кара.
«Еще — родился без пупка,
И черный камень (19)
у сынка
Девятигранный был в руке,
Зажат с рожденья в кулаке.
Через два дня он «мать» сказал,
Крича — пеленки разорвал.
Через шесть дней «отец» сказал,
Пиная — люльку разломал.
Чтоб накормить его слегка,
Сто ведер надо молока.
Он на медвежьей шкуре спит,
Воловьей шкурою укрыт.
Ему я имя не дала —
Приезда твоего ждала».
Сидел, согнувшись, наш старик,
Молчал, как черная скала.
Луноподобный светлый лик
Скрывала тягостная мгла.
Понять супруга не могла:
Какое горестное зло
На сердце воина легло?
Пока каан сидел суров,
Алыпы верные пришли,
Они упругих тальников
Зеленый ворох принесли.
Пока каан сидел суров,
Батыры верные пришли,
Пушистый ворох мягких мхов
К дворцу-аилу принесли.
Шагнул вперед старик-зайсан,
Сказал: «Ээй, родной каан,
На склоне голубой горы,
Затмившей звездные миры,
Под желтым светом многих лун
Пасется огненный табун.
А в табуне, из всех одна
Кобылка лучшая, она
Четырехуха и быстра,
И шерсть ее из серебра.
Есть жеребенок у нее,
Он пастухов не признает,
Всех кобылиц сосет подряд,
Не оставляя молока.
Как два костра, глаза горят
У бешеного стригунка.
Играя, он смертельно лих,
Прибил товарищей своих:
Шагнет — уложит пятерых,
Скакнет — задавит семерых.
Скажи, каан, что делать с ним —
Негодным стригунком шальным?»
Маадай-Кара хватает вдруг
Со ста зарубками свой лук (20),
Пускает меткую стрелу,
Стрела уносится во мглу,
И весь от выстрела Алтай
Гудит-дрожит из края в край...
А богатырская стрела
За сводами небес нашла
Под желтым светом полных лун
Огромный огненный табун.
И тонкокожие бока
Неугомонного сынка,
Кромсая плоть, ломая кость,
Стрела прорезала насквозь.
«О, на земле Маадай-Кара
Нашел я смерть»,—стригун сказал,
Качнулся — шерсть из серебра —
И наземь, скорчившись, упал.
Маадай-Кара шагнул туда,
Где завершил свои года,
И, криком напугав табун,
Упал простреленный стригун.
Он к жеребенку подошел,
Достал железный нож-томрок (21)
И брюхо-печень распорол,
И толстую кишку извлек,
Ушел, а мясо бросил там
Добычей воронам и псам.
Молозивом Алтын-Тарги
Кишку наполнил до краев;
Согнул тугие тальники
И люльку сплел из тальников;
Из мягких мхов, как облака,—
Подстилку сделал для сынка.
Приделал к люльке он с углов
Ремни из шкур семи волов.
Чтобы сынка запеленать,
Стал шкуры снежных барсов мять.
Он выбрал шкуры соболей —
Что попышней и потемней,
И бросил мягкие меха
Поверх расстеленного мха.
И вот — просторна и чиста —
На дол похожа люлька та.
Лежит подушка из бобра,
Как невысокая гора.
Алып взял сына своего,
На шкуры опустил его,
Кишку на локоть накрутил,
Рукою люльку обхватил,
Взошел на гору, что собой
Затмила полдень голубой.
Из черных глаз его жены
Обильно слезы потекли,
Как две реки — горьки, черны,—
Долину вмиг пересекли.
И молоко из двух грудей
В тоске обильно пролилось,
В два озера, зимы белей,
В долине светлой собралось...
В тень шелестящую берез
Маадай-Кара сынка принес
И в тальниковой люльке там
Подвесил к четырем стволам.
Над люлькою, невысоко,
Приладил толстую кишку,
Чтобы стекало молоко —
За каплей капля в рот сынку,
Вонзил в березу нож-томрок,
Чтоб желобком из тростника
Животворящий чистый сок
Стекал по капле в рот сынка.
И так сказал алып седой:
«Если умрешь, сыночек мой,
Все ж не покинешь край родной,
А если суждено взрасти —
Проложишь новые пути,
Пройдешь поборником добра,
Народом будешь не забыт...
Пусть защитит тебя гора,
Береза-мать благословит.
Прожить достойней бедняком,
Чем быть у недруга рабом».
Так говорил алып седой,
Качая тяжко головой,
Стирали слезы старика
Боками в небе облака.
Погоревав, воитель встал,
С горы спускаясь, зашагал.
Остался на вершине сын,
В родной аил идет каан,
И видит он: траву долин
Укрыл не снег и не туман,—
Одна полна горючих слез,
Полна другая — молока.
Жена в печали: он унес,
Ни слова не сказав, сынка.
Дверь золотую отворил
Алып и так проговорил:
«Стой-подожди, старуха-мать,
Не надо плакать-горевать!
Зажги очаг, неси вина,
Наполни чашу дополна.
Пусть правит нашею землей
Великий той, прощальный той.
И не волнуйся за сынка,
Он там, где синь и облака,
Березой-матерью согрет,
Отцом-горой укрыт от бед.
Сынок единственный взрастет
И в наш аил пути найдет.
Не плачь, жена, зажги очаг.
Неумолимый близок враг.
Вари еду, неси вина.
К Алтаю катится война.
Ты знаешь, я за много лет
Немало одержал побед.
И вот теперь, когда я сед
И прежней силы в теле нет,
К нам, затмевая белый свет,
Свою орду ведет каан —
Кровавоглазый великан,
Отродье темноты и зла —
По имени Кара-Кула.
Пусть чаша горя велика,
Ее испить придется, мать,
Но будь спокойна за сынка —
Ему в неволе не бывать.
Быть лучше пешим бедняком,
Чем быть у недруга рабом...»
Вздохнула горестно жена,
Очнувшись, точно ото сна,
Несчастье в сердце погребла,
Огонь высокий разожгла.
Пар из котла густой валит,
Там мясо ста быков бурлит,
И варится в другом котле
Верблюдов сотня. На столе
В одном тепши (22)
— сто валухов,
Баранины — до облаков.
Батыров знатных и седых
Маадай-Кара созвал на той,
Красивых женщин молодых
Семь дней обносят аракой.
Веселье песен золотых
Печальный скрасило аил,
Пир на девятый день затих,
Маадай-Кара проговорил:
«Пусть этот пир прощальный наш
И арака последних чаш
В тяжелый путь готовят нас,
Согреют краткий мирный час.
Я слаб, вы видите, и сед,
И прежней силы больше нет.
Узнал о старости моей
Зверь, пожирающий людей,
Злодей Кара-Кула каан—
Непобедимый великан.
Угонит он мой белый скот,
Народ в неволю уведет,
Но горе и позор тому,
Кто скажет злобному ему —
Где мой единственный сынок.
Младенец он, но дайте срок,
Коль суждено ему взрасти —
Отыщет к родичам пути!..»
Прошло немного, много ль дней,
Был мирным синий небосвод...
Вдруг толпы плачущих людей,
Ревущий, мечущийся скот —
У стойбищ сбились. Крики, стон,
Вой ветра с четырех сторон!
На мир обрушился мороз,
Крошащий толстые стволы
Таежных кедров и берез,
В логах кипенье серой мглы,
Вершины Чеметен-Туу
Покрылись мглою кровяной,
Дождь, каменея на лету,
Ударил в бубен ледяной.
Застыл в полете солнца свет,
Окаменела синь реки,
Гранит горы Черет-Чемет
Промерз и треснул на куски.
Кукушкам золотым теперь
На тополе не куковать.
Двум черным беркутам теперь
Настало время клекотать.
Их клекот слышит весь Алтай
И черных псов тревожный лай.
Тут солнца красный лик исчез
Перед лицом Кара-Кула,
И желтый лик луны с небес
Пропал в дыханье скакуна.
Как волны, катится орда,
Глотая целые стада,
Кара-Кула ее ведет,
Его бездонный черный рот,
Как пропасть мрачная, открыт,
Как валуны — клыки торчат,
И ужасающе горит,
Налитый кровью, дикий взгляд.
Сжирая сотнями людей,
Завоевал немало стран
Всепоглощающий злодей,
Всепожирающий каан.
Алтайских шестьдесят племен
Заставил горько плакать он.
Свободных семьдесят племен
Поставил на колени он.
Алея, кровь Кара-Кула
Еще на землю не текла,
Душа за все его года
Не прерывалась никогда.
Его могучая рука
Копьем пронзает облака.
Голубоватый меч горит,
Как снежные вершины гор,
Тяжелой кровью взгляд налит
Двух глаз — двух огненных озер.
Бездонный, точно пропасть, рот
Облеплен мясом и костьми.
Как сто зверей каан орет
И правит черными людьми.
Исчадье темноты и зла,
Ведя орду, Кара-Кула —
Громадно-черный, как гора,
Рождал дыханием ветра,
От колыханья подола
Морозом лютым вьюга жгла,
Своей смердящею и злой,
Густой и жадною слюной
Обрызгал склоны двух долин,
Несущий горе, исполин.
Рождая ветер и мороз,
Бросает он слова угроз:
«Я съем на пастбищах стада,
Я не оставлю и следа
От этих стойбищ, и народ
Я превращу в рабочий скот!
Тебе, старик Маадай-Кара,
Стать пастухом пришла пора!
Ты сало без ножа сосал,
Без плетки ездил на коне,
За годы долгие собрал
Несметные богатства мне.
Сравняю с черною землей
Аил золотостенный твой!
Старик, от нынешнего дня
Рабом ты будешь у меня.
Я долго за горами ждал,
И вот, когда ты старым стал,
С ордой вошел в твою страну,
В богатый край принес войну.
Эй! Есть ли у тебя стрела,
Чтобы сразить меня смогла?
Эй, выходи! Молчишь, старик?
От страха проглотил язык?»
И ярость слов Кара-Кула
Алтай до края сотрясла,
Заколебался небосвод,
На реках искрошился лед,
Скот заметался, заревел,
Народ, страшась, остолбенел.
Маадай-Кара, алып седой,
Откинув полог золотой,
Ступил за каменную дверь,
Глядит: в серебряной тени
Охрипли беркуты, теперь
Кричат, как филины, они.
Глядит: охрипли оба пса,
Их не расслышишь голоса,
Оскалив желтые клыки,
Скулят тайгылы, как щенки...
«Ну, что ж,— гони мой белый скот,
Веди с родной земли народ.
Ты победил. Но будет день,
Твою страну накроет тень,
Беда придет со всех сторон,
Альтом будешь побежден,
Когда в бою сойдешься с ним —
Какой ты сильный — поглядим...»
Кезерам черным знак подал
Неумолимый исполин
Кара-Кула, и мрак упал
На зелень чистую долин.
Его войска, как воронье,
Хватая, говорят: «Мое!»
Его кезеры, как зверье,
Глотая, рявкают: «Мое!»
Шесть дней стонал родной Алтай,
Убитым пал и стар и мал.
Семь дней стонал привольный край,
Гранит от крови алым стал.
Былинки малой, корешка,
Таившегося под землей,
Сухого старого пенька,
Видневшегося над землей,—
Не пропустил Кара-Кула.
Где жил народ — лежит зола.
Его несметные войска
Везут богатства старика.
И гонит белые стада
Каана черная орда.
А он, забравши все с собой,
Решив идти в обратный путь,
Реки священной голубой
Хотел теченье повернуть (23).
Он от натуги рухнул с ног,
Но повернуть его не смог.
Хотел поджечь, спалить тайгу,—
Не поддалась она врагу:
Упали на пути врага
До брюха лошади — снега.
Убить кукушек злой каан
Решил, опустошил колчан,
Злодея черного стрела
Златых вещуний не нашла.
Свершая черные дела,
Хотел свалить Кара-Кула
Стоствольный тополь бай терек,
Стоящий у слиянья рек.
Он от натуги рухнул с ног,
Но тополь повалить не смог.
Высокой коновязи столб,
Что в глубину небес ушел,
Хотел он вырвать из земли,—
Кезеры нижние пришли:
«Не трогай коновязь, каан,
Владеет ею Айбыстан!»
За верхнюю схватился часть,
Что в поднебесье уперлась,
И потянул ее, но тут
Алыпы верхние идут:
«Не соберешь костей, каан!
Рассердится Юч-Курбустан!»
Злодей Кара-Кула хотел
На гору синюю взойти,
Но ожил склон и закипел,
Закрыв обвалами пути...
Не в силах вечного попрать,
Каан домой направил рать,
Погнал народ к своим горам,
Алтайский скот к своим лугам.
Он правит тучами скота
Ударом тяжкого кнута,
И на коне темно-гнедом,
Держась в седле с большим трудом,
Маадай-Кара, старик седой,
Другою едет стороной,—
К земле врага с земли родной
Скот разномастный гонит свой.
«Злодей, Алтай ты разорил,
Разрушил каменный аил,
Меня ты сделал пастухом!
Но смелым будешь ли потому
Алып нагрянет молодой —
Уронишь на рукав башку.
Сыночек возмужает мой —
И конь твой рухнет на скаку!»
Осталось старому ему,
В седле качаясь, горевать,
Свои отары гнать во тьму,
С врагом проклятым кочевать...
Так треть пути прошли. И вот
У ядовитых желтых вод
Вдруг вырвалась из табуна
Кобыла серая одна —
Четырехуха и быстра,
Вся шерсть ее из серебра,—
Живой, стремительной стрелой
Помчалась из неволи злой.
И устремила быстрый бег
На берега алтайских рек.
Кровавоглазый возмущен,
Закаркал он, как сто ворон,
Зубами зло заскрежетал,
Как сто сорок, застрекотал.
Сминая пышную траву,
Погнал коня Кара-Кула,
И натянул он тетиву,
Но не попала в цель стрела.
Каан быстрее поскакал,
Коня, озлобясь, погонял,
Стегал, как сроду не стегал,
И пену тяжкую ронял
Во весь опор летящий конь,
И, наклонясь к нему щекой,
Кричал, как зверь, Кара-Кула,
Но легкой рысью ровно шла
Кобыла серая вдали
На грани неба и земли.
Не мог каан ее догнать,
Не мог копьем ее достать,—
То рядом выбежит она,
То вдруг исчезнет, как луна,
Неуловима, словно свет.
Глаза в ее уперши след,
Каан — погоней разогрет —
Семь раз объехал вкруг земли,
А кобылица все вдали.
Погоней этой изнурен —
Грозит кобыле серой он:
«Постой, сейчас умеришь спесь!
Семь рубежей на свете есть,
Неодолимых семь преград.
Придется повернуть назад...
Быстра, как дума, ты, но все ж
Преграды первой не пройдешь!
Навеки остановишь бег.
За устьем девяноста рек,
Где с морем слился Тойбодым (24),
Укрыты временем седым —
Два одинаковых кита
Раскрыли два огромных рта.
Киты поддерживают мир.
Я им устрою сытный пир.
Вернись, негодница, назад!
Киты живьем тебя съедят!
А не сумеют погубить —
То лучше мне — собой не быть!»
Хребты восьмидесяти гор
И русла девяноста рек
Перелетев во весь опор,
Кобыла I задержала бег.
В степи, что как туман бела,
В степи, в серебряной стране,
Четырехухая легла,
Кататься стала на спине.
Вскочила — ветер ледяной
Подул, валежник вороша,
Встряхнулась — налетел мороз,
Деревья крепкие круша.
Замерзло все — зима люта,
С вершин потек багряный дым,
Два одинаковых кита
Продрогли в море Тойбодым.
Большие головы сложив
Один другому на хвосты,
Глаза огромные смежив,
Уснули страшные киты.
Кобыла мимо них прошла,
И отогрелась, ожила
Земля от холода и сна,
Взошла весенняя луна,
И зашумел листвою лес,
И солнце глянуло с небес.
Проснулись страшные киты,
Зевают, раскрывая рты,
И видят: к ним из дальних стран
Летит Кара-Кула каан.
Одной полой закрывши свет,
Закрывши тьму другой полой,
Спешит, ища кобылки след,
Кричит, разгневанный и злой:
«Ну что, чудовища мои,
Ну что, воители мои,
Скорее дайте мне ответ —
Кобылу съели или нет?»
В ответ заспорили киты,
Кричат один другому: «Ты!»
«Нет, ты проспал и проглядел!»
Как снег, каан от злости — бел,
От гнева, как огонь — багров,
Назвал безмозглыми китов.
По голове и по глазам
Ударил серого коня,
По убегающим следам —
Мрачнее дыма, злей огня —
Помчался он еще быстрей
И закричал еще страшней:
«Прошла одну преграду, что ж -
Вовек другую не пройдешь!
Клянусь, не дам тебе пути
В края алтайские найти!
Я загоню тебя туда,
Где степь сверкает, как слюда.
Там, под железною горой,
Стоит бескорый тополь мой.
Два змея желтые лежат
Вокруг железного ствола,
Они дорогу сторожат,
Что в край алтайский пролегла.
И каждый мой бессонный змей
Бессчетно проглотил коней.
Настала очередь твоя.
А не проглотят: я — не я!»
Хребты восьмидесяти гор
И русла девяноста рек
Перелетев во весь опор,
Кобыла задержала бег.
В степи, что хлопково бела,
В лунно-серебряной стране,
Золотогривая легла
И повалялась на спине.
Вскочила, фыркнула она,
На степь упала темнота,
И раскаленный докрасна
Тут выпал камень изо рта.
Мороз косматой головой
Затряс — жесток, колюч и зол,
Железный тополь вековой
С громовым треском расколол.
Шагнул мороз — простор степей
Под ним растрескался, как лед,
И вот — один к другому змей
От холода теснее льнет.
Уснули змеи. Как стрела,
Кобыла мимо них прошла.
И степь цветами расцвела.
А злой каан Кара-Кула
Вперед пустил звериный рык,
К щеке коня щекой приник,
Летит, рассерженно крича,
Тяжелой шубою стуча:
«Ээй, ээй, друзья мои,
Сыны прожорливой змеи,
Скорее дайте мне ответ —
Кобылу съели или нет?»
Два змея, как песок желты,
Шипят один другому: «Ты!»
«Нет, ты проспал и проглядел!»
Каан от злости почернел,
В глазах его померкнул свет,
Кричит каан кобыле вслед:
«Съешь сыновей своих сердца,
Съешь мясо своего отца —
Прославленного жеребца!
Не отступлюсь я до конца!
Не поверну коня назад!
Есть на Алтае семь преград,
Семь страшных порождений зла,
Ты только два из них прошла.
Я загоню тебя туда,
Где ты погибнешь без следа.
У скал, у черных валунов
Есть семь зловещих кабанов.
Съедят тебя, а не съедят —
Я поверну копя назад,
Не погонюсь я за тобой,
И пусть плюет в меня любой!»
Летя как быстрая стрела,
Кобыла встала на бегу,
Сереброшерстая легла
И повалялась на лугу.
Вскочила — закипел туман,
Поникла в темноте тайга,
И пали на покой полян
До брюха лошади снега.
Встряхнулась — и мороз суров
Тяжелой поступью пошел,
Он восемь черных валунов
До основанья расколол.
Кобыла фыркнула — рванул
Жестокий ветер, дикий рев,
И по земле понесся гул
От расколовшихся стволов.
Сбежались в кучу кабаны,
Легли тесней — спина к спине,
Пригрелись, спят и видят сны,
И сладко хрюкают во сне.
Вмиг кобылица, как стрела,
Преграду новую прошла.
И солнце в шапке золотой
С улыбкой глянуло на мир,
Простор, лучами залитой,
Зазеленел в единый миг.
Кровавоглазый тут как тут.
С руки змеей свисает кнут.
Молчит Кара-Кула, притих,
Устал каан, и конь устал,
Он половину сил своих
В бессонном беге растерял.
От гнева сам не свой каан,
Сказал: «Ээй, вожак-кабан,
Скажи, скорее дай ответ —
Жива кобыла или нет?»
Семь виноватых кабанов
Дерутся, вымещая страх,
Клыками раздирая в кровь
Друг другу шкуры на боках.
Их не ругал, лишь поворчал
Каан, вполголоса бранясь,
Но дальше — больше, закричал,
От неудачи распалясь:
«Есть на Алтае семь преград!
Беги, проклятая, назад!
Вот смерть твоя: у гор крутых
Паршивых два верблюда есть,
Живая не минуешь их —
Они любого могут съесть.
Ты свой побег закончишь там.
Мои паршивые друзья
Тебя размажут по камням!
А если нет, то я — не я!»
Кобыла в желтой, как луна,
В степи блестящей, как слюда,
Упала серая, она
Тут повалялась, как всегда.
И красный закипел туман,
И крепкий затрещал мороз,
Холмов поверхность и полян
Опять растрескалась насквозь.
От холода парша зверей
Так зачесалась, что скорей
Верблюды к дереву бегут,
Свои бока и шеи трут.
Чесались долго, все забыв...
Кобыла легкая, как свет,
Прошла, рубеж перескочив,
И — на земле мороза нет.
Алтай сиянием согрет
Златого солнца и луны.
И вновь от южной стороны
Раздался громкий крик и рев,
От гнева дикого багров,
Кара-Кула на скакуне
Кричит: «Друзья, скажите мне,
Кобылу быструю, как свет,
Вы растоптали или нет?»
Услышав это, у ствола
Разинули верблюды рты.
Их речь бессвязною была:
«Ты прочесался!» «Ты!» «Нет, ты!»
«Молчать, безмозглые скоты,
Мешки парши и слепоты!» —
Кричит Кара-Кула каан,
Кровавоглазый великан.—
Вернись, проклятая, назад!
Есть на Алтае семь преград!
Ты половину их прошла,
Но не пройдешь исчадий зла —
Двух мерзкопахнущих самцов —
Моих медведей-удальцов.
От тех медведей из гостей
Не возвращаются назад.
В мешок обглоданных костей
Тебя, кобыла, превратят.
А если снова не убьют,
Пускай мне все в глаза плюют!»
Пока кричал Кара-Кула,
Кобыла серая паслась,
Затем на пышный луг легла
И покаталась, повалясь.
Вскочила — затрещал мороз,
Затопал, застучал ногой —
Потрескались стволы берез,
Гул прокатился над тайгой.
Встряхнулась — снег глубокий лег,
Метельная взметнулась мгла,
Медведей в темноту берлог
Зима лихая загнала.
Пока самцы-медведи спят,
Копыта звонкие стучат —
Кобыла быстрый правит бег.
И вновь растаял лед и снег,
Пришла весенняя пора.
Вот так в страну Маадай-Кара,
Вернулась в отчие края —
Четырехуха и быстра —
Кобыла серая моя.
А злой Кара-Кула каан
Усталый — в голове туман —
Медведей спрашивает он,
А тех еще ломает сон:
«О, славные мои друзья,
Стена последняя моя,
Скорее дайте мне ответ —
Прошла кобыла или нет?»
Медведи спорят: «Ты проспал!»
«Нет, ты проспал и проглядел!»
Их поносить каан не стал,
В седле устало он сидел.
Конь богатырский отощал.
Кровавоглазый похудел.
Конь в грязной пене и пыли,
А у каана самого
Торчат—сквозь шапку проросли,—
Как щепки, волосы его.
Сквозит коня худой костяк,
Хоть ведра вешай на боках.
Глаза от бега впали так —
В глазнице каждой десять птах
Свободно гнезда вить могли.
Шесть раз объехав вкруг земли,
Каан и конь изнемогли.
В последний раз Кара-Кула
Клянется: «Большинство смогла
Смертельных проскочить преград,
Вернись, проклятая, назад!
Последний мой рубеж таков:
Семь черных духов — семь волков,
И девять воронов, как ночь,—
Они готовы мне помочь.
Тому, кто глаз твой проклюет,
Я дам глаза ста кобылиц.
Тому, кто горло перервет,
Отдам табун в сто кобылиц».
Тут наша серая пошла
Владеньями Маадай-Кара,
И вмиг ее укрыла мгла,
Закрыла бурая гора,
Укрыли россыпи камней,
Стоствольный тополь вековой,
И тальники сошлись над ней —
Ее закрыли с головой.
Копыт летящих быстрый след
Тут оборвался — был и нет.
Семь дней искал ее каан
Среди долин, среди полян,
На перепутьях ста дорог,
Но отыскать никак не мог.
Волкам тогда он приказал,
И черным птицам наказал,
И сроку дал он им семь дней —
Найти ее, покончить с ней.
Сказали «ладно», понеслись,
За дело черное взялись.
А сам Кара-Кула каан,
Кровавоглазый великан,
В обратный путь коня пустил,
Совсем уже лишившись сил.
Теперь, смертельно утомлен,
Про кобылицу думал он:
«Что ж, не вернулась ты назад,
Так волки-вороны съедят!»
А кобылица вслед ему
Сказала, плюнувши во тьму:
«Уйти я от тебя смогла,
Позор тебе, Кара-Кула!
Увел народ, но погоди —
Возмездье будет впереди!
Из шкур семи твоих волков
Тут шубу теплую сошьют,
Из перьев воронов твоих
Подушку толстую набьют!»
Кобылка после слов таких
Исчезла в зарослях густых...
Коня не гонит своего
Каан измученный, в пыли.
Густые волосы его
Уже сквозь шапку проросли.
Качаясь на худом коне,
Заметил он издалека
На полпути к своей стране
Большого черного быка,
За ним телегу в серебре
С тремя десятками колес,
А на телеге на ковре
Свою жену Абрам-Моос.
Она ждала четыре дня,
Дождавшись, счастлива была,
И мужа, и его коня
Домой в телеге привезла.
Приехавши к себе домой,
Каан кровавый справил той:
Людскую кровь Кара-Кула
Процеженную в глотку лил,
Кровь конскую исчадье зла,
Остуженную, жадно пил.
Куски отменных кобылиц
Стоят в корытах перед ним,
Хвосты и мясо валухов
Лежат горами перед ним.
Средь окровавленных полян,
Среди обглоданных костей —
Всепожирающий каан,
Всепоглощающий злодей,
Сосущий сало без ножа,
Без плетки ездящий каан,
Теперь, насытившись, лежал
От человечьей крови пьян.
Бездонного, как пропасть, рта
Зияла черная дыра.
Он половину съел скота
Из табунов Маадай-Кара.
В два раза толще стал злодей —
Из сала щек не видно глаз,
И конь на родине своей
Теперь жирнее в десять раз.
В тюрьму железную увел
Каан захваченный народ,
И за железный частокол
Загнал алтайский белый скот.
Алтайских шестьдесят племен
Невольниками сделал он,
Алтайских семьдесят племен
Поставил на колени он.
Маадай-Кара, устал и стар,—
Его рабом отныне стал...
Придя в алтайские края,
Из заповедного ручья
Воды кобыла напилась
И обернулась в тот же час
Коровой синей молодой
С четырехрогой головой.
Затем пошла она туда,
Где, как и в прежние года,
Шумит над бегом синих рек
Несокрушимый бай терек,
Стоствольный тополь родовой,
Златосеребряной листвой.
Здесь, у железного ствола,
Мычать корова начала.
Мычит корова и ревет,
Казалось, пуст Алтай, но вот —
С вершины — как туман бела,
Старуха древняя сошла.
Одежда женщины бедна,
И сразу видно, что она —
Стара, устала, голодна —
На весь Алтай жива одна
Перемогается, живет.
Себя — хозяйкою зовет
Земли опустошенной всей,
Безлюдной родины своей...
Корове голову, глаза,
Лаская, гладила она,
И за слезой текла слеза:
«Теперь, наверно, ты одна
Осталась от всего скота.
Долина пышная пуста...»
Пока печально речь текла,
Корова синяя пошла
К нависшей над лужком скале,
А там в затишке и тепле
И отелилась, принесла
Четырехухого бычка,
Четырехрогого сынка...
У пяток голубой горы,
Шалаш построив из коры,
Старуха стала тихо жить,
Корову синюю доить,
Присматривая за бычком,
Парным питаясь молоком.
Но одиноко дни текли
Средь обезлюдевшей земли.
И каждый день, судьбу кляня,
Ворчала горестно она:
«Я одинока и стара...
На всей земле Маадай-Кара
Среди долин, в лесной глуши
Неужто нету ни души?
Корова синяя моя
На все алтайские края
Одна осталась от коров...»
Вдруг раздается громкий рев.
И в ухо правое ее
Влетел далекий этот крик,
И в левом ухе у нее
Он отозвался в тот же миг.
«Эй, эй,— старуха говорит,—
Пойду взгляну — кто там кричит?»
На медный посох оперлась,
На черный гребень поднялась.
«Не птица ль злая тут кричит,
Меня пугая среди дня?
Тут не младенец ли кричит
И кличет жалобно меня?»
Семь дней шагала по горам,
Шесть дней искала тут и там,
И видит: в люльке меж берез
Лежит малыш, промок от слез.
Свой сок береза отдала,
И трубочка из тростника
От рта младенца отошла.
Висит над люлькою кишка,
И в ней осталось молока
Достаточно, одна беда,
Что соска — каменно-тверда.
Ребенок восемь дней не ел,
Младенец восемь дней молчал,
Пить захотевший — заревел,
Есть захотевший — закричал.
Старушка счастлива была,
К младенцу в люльке подошла,
И, отвернувшись от него,
Всплакнула горестно она,
Взглянув на мальчика того,
Смеясь, промолвила она:
«О, глаз моих огонь живой,
О, разум старческой души,
Единственный, прекрасный мой,
Мой ненаглядный, погоди,
Настанет, мальчик мой, пора:
Кормить родную будешь мать,
И твой отец Маадай-Кара
Тебя сыночком будет звать...»
Тут люльку вместе с малышом
Рукою правой ухватив,
Кишку большую с молоком
На левый локоть накрутив,
С вершины старая пошла.
На склоны вдруг упала мгла,
И дождь обрушился, подул
Свирепый ветер. Громкий гул
Тут покатился по горам.
Скользя на склоне по камням,
Качнулась старая без сил,
И ветер злой ее свалил.
И покатилась вниз она,
Жестоким ветром снесена.
Лежит, в глазах то тьма, то свет,
То помнит все она, то нет.
И до подножия семь дней
Она катилась меж камней.
Очнулась — помутился свет,
Ребенка нет, и люльки нет.
Вскричала горестно она,
Седой качая головой:
«Зачем осталась я жива,
Когда исчез сыночек мой?»
«О чем горюете вы тут?
Кого вы потеряли тут?» —
Донесся сзади громкий смех.
Глядит она: прекрасней всех
- Двухлетний мальчик дорогой
Жив и целехонек стоял,
В чем был рожден Алтын-Таргой,
Злато-серебряный сиял.
Он камень левою рукой
Девятигранный крепко сжал,
И камень правою рукой
Тяжелый черный он держал.
Пеленок нет, подстилок нет,
Одетый в легкий лунный свет,
Прекрасный мальчик был таким,
Каким рожден — совсем нагим.
Старушка быстро подошла,
Ребенка на руки взяла
И до жилища своего
Мгновенно донесла его.
И напоила молоком,
И накормила творожком.
Однажды мальчик ей сказал,
На вечный тополь показал:
«Какие птицы тут и там
На бай тереке дорогом
Затеяв безобразный гам,
Пера насыпали кругом,
Замусорили все вокруг?
Скорее сделайте мне лук
И стрелы, старая моя,
Их всех перестреляю я!»
«Придет, придет его пора,—
Старушка думает,— он смел».
И лук согнула из ребра,
И камышовых тонких стрел
Охапку принесла ему,
Сынку-ребенку своему.
Мальчишка — вниз летящих птиц
Теперь на родине своей
Не допускает до ветвей.
Двухлетний — вверх летящих птиц
Не допускает до небес —
Как камни падают с небес.
И славный тополь родовой
Звенит свободною листвой.
Старуха, глядя в костерок,
Сидит и тихо говорит:
«Чего захочешь, мой сынок,
Того достигнешь,— говорит,—
За кем погонишься, сынок,
Того поймаешь,— говорит,—
Клыкастый конь — исчадье зла
Забудет вкус алтайских трав,
Злодей каан Кара-Кула
Башку положит на рукав».
Сказала так, но из того
Не понял мальчик ничего.
Взошел сынок на косогор,
На косогоре Бодюты,
Где были травы с давних пор
Неувядаемы, густы —
Зайчишек семьдесят косых
Паслись. Прицелился сынок,
Убил одной стрелою их,
К ногам старушки приволок.
Та говорит — восхищена:
«Твоя зайчатина жирна!»
Весь день сидела у костра,
Всю ночь варила до утра,
Кормила мозгом из костей,
Кормила почками его,
И съел мальчишка за семь дней
Зайчишек всех до одного.
И вновь взошел на косогор.
На косогоре Кодюты,
Где были травы с давних пор
Неувядаемы, густы —
Там девяносто маралух
Паслись. Прицелился сынок,
Согнул неторопливо лук,
Убил их, к юрте приволок.
Старушка вновь восхищена,
Добычу приняла она,
От счастья замирает дух:
«Прекрасно мясо маралух!»
Весь день сидела у костра,
Всю ночь варила до утра,
Кормила мозгом из костей,
Печенкой свежею, парной,
И мальчик мой за девять дней
Всех маралух съел до одной...
Прошло немного, много ль дней,
И вдруг поникли небеса,
Над миром раздались — страшней
Один другого — голоса.
В лесах алтайской стороны
Завыли волки, сея страх.
И девять воронов, черны,
Заклекотали в небесах.
Так семь волков провыли зло,
И вой их ветром понесло:
«Тут поселившихся—съедим,
Расшевелившихся — съедим,
Закончив славные дела,
Пойдем в страну Кара-Кула,
В страну каана побежим
Просить обещанного им:
Кровавоглазый будет рад,
За все отплатит во сто крат:
Корову синюю съедим —
Табун кобыл нам даст каан,
Теленка синего съедим —
Сто жеребцов нам даст каан,
Старуху дряхлую съедим —
Сто молодух нам даст каан,
Мальчишку слабого съедим —
Сто человек нам даст каан».
Летели волчьи голоса,
Качали вечные леса.
А вороны кричали зло,
Летя, как тьма, к крылу крыло:
«Здесь поселившихся — убьем,
Расшевелившихся — склюем.
В страну каана полетим
Просить обещанного им.
Нальет нам крови полный чан,
Озера слез нальет каан...»
Услышав страшного зверья —
Семи волков и воронья —
Слова, исполненные зла,
Старушка сразу поняла,
Что не спастись теперь от них —
От духов черных, горных, злых.
«Коль есть нечистые хотят—
Мою корову пусть съедят.
Коль есть проклятые хотят —
Пускай телка ее съедят»,—
Со страхом думала она.
И вот упала ночь темна,
Открылись звездные миры.
Сыночка-мальчика она
Укрыла в юрте из коры,
Легла-заснула рядом с ним —
Злато-серебряным своим.
Порою той корова, чья
Четырехрога голова,
Услышав клекот-вой зверья,
Такие молвила слова:
«Коль эти звери голодны,
Старуху пусть съедят они.
Коль птицы эти голодны,
Мальчишку заклюют они».
И от напасти этой злой
С телком укрылась под скалой.
Корова синяя легла
Сама над сыном, как скала.
Непромахнувшийся стрелок —
Злато-серебряный сынок
Проснулся в полночь и ползком
Из юрты выскользнул тайком.
Встал за порогом в полный рост,
На небо летнее глядит,
И ровно десять тысяч звезд
Там, получается, горит.
«Пойду-ка в дикий бурелом,
Покрывший семьдесят логов,
На дне ложбины, за бугром,
Не подождать ли мне волков?
Что будет, если подождать?» —
Промолвил он и взял опять
Свой лук и тонкую стрелу
И тихо двинулся во мглу.
Сквозь чащу проскользнул малыш.
Бесшумно тропка пролегла.
Шагов его — лесная мышь
И та услышать не смогла.
Малыш прошел сквозь бурелом,
Походка так легка была,—
Лисица с огненным хвостом
И та заметить не смогла.
Кустарник острый и густой,
Где заяц пробежать не мог,
Прошел мой мальчик золотой
И не поранил рук и ног.
Прошел все заросли сынок
И спрятался за бугорок.
Чем ближе утро — ночь темней.
Такая темень, что ушей
Не различишь у скакуна,
На шаг — корова не видна.
Поднявшись с места своего,
Он осмотрелся — никого.
Послушал чутко — тишина.
Пуста ложбина и темна.
Травы надергал, подстелил,
Мха в изголовье положил.
Тут осторожный мальчик лег
И чутко придремал чуток,
И снова посмотрел вокруг,—
Во тьме густой заметил вдруг:
Горит невиданный узор —
Ряд синих звезд у дальних гор.
Что там за звезды — он гадал,
По пальцам звезды сосчитал,
Немногим больше было их,
Чем пальцев на его руках.
«Я от рожденья звезд таких
На полуночных небесах
Не видел что-то никогда...»
Вдруг за горой пошла гора,
И за звездой пошла звезда,—»
Гоня дыханием ветра,
То волки стаею к нему
Шагнули, черные, сквозь тьму.
И кости множества коней
У них засохли на губах,
Тела растерзанных людей
На восьмигранных их зубах.
Они — преграды на земле —
Как горы черные во мгле,
Лохматой шерстью обросли.
Как стая звезд, они вдали
Глазами темноту прожгли...
Сидел мальчишка до тех пор,
Пока к подножью здешних гор,
Подобно глыбам черных скал,
Они пришли, тогда сказал:
«Ээй, ударю вас не я,
Я не хочу вам, волки, зла.
Вас не рука сразит моя,
А камышовая стрела».
Лук из ребра легко согнул,
И тетиву он натянул,
Огонь на кончике стрелы
Тут ослепительно сверкнул,
Тут искры брызнули светлы
Из пальцев мальчика, и гул
От выстрела потряс Алтай,
Поколебал из края в край.
И задрожало все вокруг,
Гром прокатился по долам —
От выстрела сломался лук
С громовым треском пополам.
Как луч летящая стрела
Бока семи волкам прожгла,
Сквозь семь слоев земли прошла,
В недосягаемой дали,
За гранью неба и земли,
В морской залив упав, стрела
В нем воду желтую зажгла.
Взбурлила бешено она,
Мгновенно выкипев до дна.
«О, горе!» —взвыли семь волков
И, сжавши челюсти, легли.
Из развороченных боков
Потоки крови потекли.
И, друг на друга положив
Большие головы, они,
Глаза погасшие смежив,—
Подохли, досчитали дни.
Кровь ядовитая, бурля,
Сожгла цветущие поля.
В долине груды их костей
Упали россыпью камней.
А в посветлевших небесах,
Вселяя ужас, сея страх,
Черна, когтиста и мрачна
Орава воронов видна.
Клекочет, каркает она.
Грозою вороны летят,
Глазами землю бороздят,
Как ураган дыханье их
И крыльев колыханье их.
Выклевывать глаза коней,
Выклевывать глаза людей
Привыкшие — беды черней,
Несчастья тяжкого лютей,
Сказали вороны: «Ээй!
Лететь нам надо поскорей,
Там волки взвизгнули, поймав
Среди густых алтайских трав
Кобылку серую! Скорей
Опустошим глазницы ей!»
Услышав это, мальчик мой
Пошарил правою рукой,
Но не попалось ничего.
Тогда от камня своего,
Того, с которым был рожден,
Кусок отламывает он.
В руке обломок крепко сжал
И заклинание сказал:
«Убью вас, вороны, не я,
Сразит вас не рука моя,
Не меч, не меткая стрела,
Я не хочу вам, птицы, зла.
Обломок камня сам взлетит
И вас в полете поразит».
Взмахнувши правою рукой,
На дно высоких трех небес
Малыш кидает камень свой,
И раздается громкий треск,
Свист, удаляющийся стон,—
Обломок в синеве исчез,
И покачнулся небосклон.
И духам черным десяти
Летящий камень по пути
Мозги повышиб из голов,
В полете шеи перебил,
И сто березовых стволов
До корня кровью окропил.
Подохших воронов тела
Одна долина приняла.
Их головы нашли покой
В долине дрогнувшей другой.
Но где же ныне камня след?
Путем длиной в десятки лет
Он долетел до дальних стран,
Где властвует Талбан-каан.
В мгновенье ока камень тот,
Влетев в аил сквозь дымоход,
Свистя обрушился в котел,
Пробил быка, котел, очаг
И в землю глубоко ушел,
И в той стране, где вечный мрак,
Где злобный властвует Эрлик,
Обломок черный в тот же миг
В морской залив бездонный пал,
Взметнулся ядовитый вал,
Вскипела желтая вода
И выкипела без следа.
Богатыри большой страны
Видением удивлены,
Падением изумлены,
В смущении Талбан-каан
Гадает: из каких же стран ,
Свистящий камень тот упал,
Какой алып его послал?..
Связавши за ноги волков,
Неубоявшийся стрелок,
За крылья воронов связав,
Непромахнувшийся стрелок
Их из ложбины поволок.
Пока из зарослей тащил,
Рассвет широкий наступил/
Пока за семь долин волок,
Проснулся утренний восток,
И солнце выпило туман,
Взойдя из ханства Сарыйман.
Прислушался малыш-кюлюк (25):
Не ветер воющий вокруг
Печально, горестно звучит —
Старушка жалобно кричит.
Гуляет эхо по лесам,
Взлетает к синим небесам.
«Сынка, сокровище мое,
Сожрало злобное зверье!
Померкло солнце среди дня.
Нет больше жизни для меня.
Волками съеденный, погас
Огонь моих усталых глаз.
Нет горя — моего черней,
Печальней — участи моей.
Ох! На моих глазах сынка
Из юрты волки унесли!..»
Так речь ее была горька,
Слова так жалобно текли.
Так голос горестно летел,
Что, отзываясь, лес стонал.
Тут мальчик весело запел,
На дудке звонко заиграл:
«Из шкур убитого зверья
Доха получится иль нет?
Из черных перьев воронья
Подушка выйдет или нет?»
«Ты невредим, родной сынок!» —
Вскричала, выйдя за порог,
Старушка добрая, глядит:
Зверье убитое лежит.
Она качает головой,
Бормочет: «Мальчик золотой...»
Волков она ободрала.
«На доху хватит»,— говорит,
И с воронов перо сняла.
«Подушка выйдет»,—говорит.
«Отца, вскормившего тебя,
Обнимешь ты, родимый мой.
И мать, ласкавшую тебя,
Ты привезешь, сынок, домой.
Кровавоглазый великан
Положит, на рукав башку,
Конь темно-серый, как туман,
Подохнет, рухнув на скаку».
«Ээй, родная, не пойму,
Рассказываешь ты к чему —
Положит на рукав башку,
Подохнет, рухнув на скаку...
Кровавоглазый — кто таков?
Каких тут пуговица слов?
Конь темно-серый — кто | таков?
Скажи, каких тут угол слов? (26)
Скажи, ответь мне наконец —
Кто мать моя и мой отец?
Бродягой жить мне, без коня —
Такая доля у меня?»
«Все расскажу, пришла пора.
Родитель твой — Маадай-Кара,
Мать у тебя — Алтын-Тарга.
Они в неволе у врага.
Ээй, ээй, родной сынок,
В стране, к которой путь далек,
Сидит Кара-Кула каан —
Властитель всех подлунных стран.
Алтайских семьдесят племен
Поработил, проклятый, он
Алтайских шестьдесят племен
Невольниками сделал он.
Нечистый — полной чашей пьет
Своих рабов кровавый пот.
И темно-серый конь под ним
Не устрашится бурных вод.
Кара-Кула непобедим.
Неисчислим его народ.
Спокойно жил родной Алтай,
Покуда молод был Маадай,
Но только старость подошла,
Большая грянула беда:
Угнал алтайские стада
Злодей, разграбил все дотла.
Хлеща тяжелой плетью скот
И пикою гоня народ,
Заставил кочевать к себе.
И покорились все судьбе.
За свой народ и за отца
Ты должен биться до конца!
Такая выпала судьба.
И будет славный у тебя
От духа вод рожденный конь,
Тебе не раз поможет он.
Ты сам — от духа гор рожден,
Среди алыпов всех племен
Прославишь родину свою
И имя доброе в бою —
Могучий Когюдей-Мерген!»
От этих слов вскочив с колен,
Стал мальчик взад-вперед шагать,
Ладонь ладонью потирать.
«Отцу, вскормившему меня,
Погладить бороду хочу!
И к матери, быстрей огня,
Сейчас стрелою полечу!
Развею по ветру беду!
Где конь, седло и стремена?
Каана подлого найду,
Где черная его страна?
Не скажут люди «струсил он»,
Пусть лучше «сгинул» говорят.
Не проворчат «не ездил он»,
Пусть лучше «ездил» говорят.
Вечноживущих нет коней,
Бессмертных нет богатырей,—
Найду я силу, чтоб смогла
Перебороть Кара-Кула!
Разрушу стойбище его,
Убью каана самого!
Послушав храброго сынка,
Старушка молвила: «Пока
Слабы, малыш, твои хрящи,
Напрасно смерти не ищи.
Густая кровь Кара-Кула
Еще на землю не текла,
Душа за долгие года
Не прерывалась никогда.
И неприступен вражий стан,
И непреклонен злой каан.
Ты сам подумай-посуди:
Его жена Кара-Таади —
Любимая Эрлика дочь —
Колдунья черная, как ночь,—
Провидит злобная она,
Кому погибель суждена.
Стой-подожди, не торопись,
Своей ты силы не достиг,
Душой ц телом укрепись
И разумом умерь язык.
Идя войной на силы зла,
С умом свершай свои дела.
Подумав, в трудный путь пойдешь—
Дорогу верную найдешь.
Запомни: и под силачом
Земля бывает скользким льдом.
Коварен волк, хитер и смел,
А набредет на самострел.
Будь терпелив, родной сынок,
Пойми одно: всему свой срок.
Не норови каана скот
Набегом-силой захватить,
А думай, как родной народ
В края Алтая возвратить.
Каана не спеши убить,
Оставить пепел от дворца,
Реши, как мать освободить,
Как на Алтай вернуть отца.
Коль море встретится — плыви.
Коль пропасти — перелети.
Нужна сноровка — прояви.
Нет выхода — найди пути.
Будь справедлив в борьбе со злом
И утверждай в бою добро,
Громадину Сюмер-Улом (27)
Тогда поднимешь, как перо».
Сыночка славного она
Так наставляла дотемна.
Ребенку милому она
Так говорила до утра:
«Великого Маадай-Кара,
Внимай, единственный сынок,
Путь будет труден и далек.
Хребты семидесяти гор,
Мой мальчик, будут высоки,
И воды девяноста рек,
Сыночек, будут глубоки.
Конь сытый станет уставать,
Но ты вперед ступай, сынок,
Могучий, станешь уставать,—
Назад не отступай, сынок...»
За днями дни спокойно шли,
Ждала старушка, наконец,
Откуда-то из-под земли
Телегу вывез жеребец.
Старушка быстро подошла,
Кошму с повозки убрала.
На ней, как лунная гора,
В сплошном сиянье серебра
Одежда новая лежит,
Оружье мощное блестит.
Тут принялась старушка-мать
Одежды парню подавать,
И впору было все ему,
Сынку-алыпу моему:
Богато-крепкие штаны
С застежками светлей луны,
Рубаха, что белее дня,
С застежками светлей огня,
И шапка с лунною звездой,
С узорной вязью золотой,
Не велики и не тяжки,
Подбиты златом сапоги,
И пояс медно-золотой
С горящей солнечной звездой,
Не велика и не мала —
Как раз — доха ему была.
Затем взялась старушка-мать
Оружье парню подавать,
И оказалось, что опять
По силам было все ему,
Сынку-алыпу моему:
Непритупляющийся меч
Не тяготил могучих плеч,
И пика, огненно-светла,
По силам юноше была,
Железный лук, могучий лук,
Не отягчил могучих рук,
В саадаке (28)
каждая стрела
Сподручна юноше была.
Старушка добрая взяла,
Сынку-алыпу подала
Две рукавицы боевых,
Чтоб шеи вражеские мять,
Две рукавицы золотых,
Чтоб сухожилья вражьи рвать.
Могучий молодой каан
Взял и засунул их в карман.
«Взгляни в алтайские края,—
Сказала старая моя,—
Оой, оой, смотри туда,
Где гор кончается гряда,
Оой, оой, смотри, сынок,
В истоки десяти дорог».
И Когюдей-Мерген взглянул
Туда, откуда несся гул,
Откуда доносился гром,—
Там, мечен солнечным тавром,
Там, лунным отличен тавром,
Пасется темно-сивый конь,
Прекрасный белогривый конь,
Чьи уши небо бороздят,
Чьи очи звездами горят,
Светлы, как месяц молодой,
Хребет сияет золотой,
Из-под ступающих копыт
Земля до облака летит.
Пушистой гривою густой
Укрыты валуны колен,
Хвост — ниже щеток, золотой,
А грудь — мощнее горных стен.
Красив на Диво, был такой
Конь белогривый, быстрый конь.
Он лют в бою, в дороге — скор,
Не изнурится никогда,
Он сотни рек и сотни гор
Преодолеет без труда.
Красив и чуток, плотен, сыт —
Как нарисованный стоит.
Потник на нем белей, чем луг,
Который снегом занесло,
И держат шестьдесят подпруг
Златое крепкое седло.
Крепки нагрудник и узда,
Прослужат долгие года.
Не лопнут шестьдесят подпруг
При спуске в нижнюю страну,
Подпруги не порвутся вдруг
При взлете в верхнюю страну.
Нагрудник — кольцами увит,
Златыми бляхами гремит.
Плеть с рукоятью золотой
Заткнута за луку была,
Аркан, свернувшийся змеей,
Привязан сзади у седла.
Двух кольчатых железных пут
Висели сочлененья тут.
Чембур прекрасный золотой
Висел над самою землей.
«Конь из коней»,— алып сказал,
Погладив конские глаза.
Поверх одежды дорогой
Надел он крепкий панцирь свой,
И сотни пуговиц на нем
Сверкнули солнечным огнем.
И сто березовых жердей
Он привязал к спине своей.
Песка речного сто мешков
Навьючил на коня с боков.
На темно-сивого вскочил,
Уселся между лук седла,
Поводья крепко ухватил,
Слегка подергал удила.
Ногами встал на стремена —
И затуманилась луна.
Хотел он повернуть коня —
Померкло вмиг сиянье дня.
Конь драгоценно-золотой
Как будто вкопанный стоит,
Мотает гривою густой,
Глазами карими косит.
«Попробуй сядь — торбок и тот
Вовсю брыкается, ревет.
А темно-сивый — что за конь,
Неповоротливый такой?» —
Так Когюдей-Мерген ворчит.
А темно-сивый говорит:
«Любая девушка, садясь,
Коня со свистом плеткой бьет.
Таких алыпов отродясь
Я не видал. Чего он ждет?»
Стал лик алыпа злей огня.
И белогривого коня
Он плетью вытянул своей,
Гоня его в простор степей.
Как жеребенок, конь заржал,
Как стригунок, он завизжал,
Брыкался, дыбился и вот
Стрелою полетел вперед.
По желтым выжженным степям
Скакать пустился ярый конь,
По голым каменным полям
Семь дней крутился быстрый конь.
За ним в густой пыли исчез
Незамутимый свод небес.
И Когюдей-Мерген в седле
Летит, мотаясь в пыльной мгле,
То помнит он себя, то нет,
То видит свет, то меркнет свет.
Летит, на бешеном скаку
Рукой хватаясь за луку.
Шесть дней он объезжал коня,
Все бился белогривый конь,
Но к вечеру седьмого дня
Смирился темно-сивый конь.
Всю степь копытами изрыл,
Равнину всю избороздил.
Придя в себя, седок-кюлюк
Увидел, глянувши вокруг:
Из ста березовых жердей —
Одна осталась за спиной.
Отныне каждый из людей
Так носит лук с колчаном свой.
Осталась под воротником
Из сотни пуговиц — одна.
На шубе каждой с этих пор
Одна застежка быть должна.
Песок рассыпался речной,
Один мешок остался цел,
Чтоб человек в пути любом
С собой всегда талкан (29)
имел.
-И, восклицая «конь так конь!»
Алып был сильно удивлен,
И, восклицая «муж так муж!»
Конь драгоценный восхищен.
«Мы расстоянье в год пути
Проедем за день,— говорят,—
Кровавоглазого найти
Теперь нам надо,— говорят,—
Ограду черную открыть,
Скот на свободу отпустить.
Тюрьму железную разбить,
Родной народ освободить».
К старушке доброй поскорей
Поехал Когюдей-Мерген,
Старушке ласковой своей
Он поклонился до колен.
«Хозяйка добрая моя,
Спасли-вскормили вы меня,
Вооружили вы меня
И драгоценного коня
Вы снарядили для меня.
Вечноживущих нет коней —
Хочу обнять родную мать;
Вечноживущих нет людей—-
Поеду я отца обнять».
Почтенная взялась опять
Сынка-алыпа наставлять:
«Свои края — родной Алтай,
Дитя мое, не забывай.
Стремнины рек, степей простор
Твоя отчизна,— говорит,—
Семь недоступно-вечных гор —
Твоя опора,—говорит.—
Жизнь проведи с мечом в седле,
Громя заклятого врага,
Но возвратись к родной земле,
К теплу родного очага.
Коль встретишь ты, людей седых,
Почтенными их называй.
Людей увидишь молодых,
Здороваться не забывай.
Не будь как волк — угрюм и зол,
На волка ставят самострел.
Глядишь — он сам стрелу нашел,
А вроде был хитер и смел.
Могучим не кичись плечом,
Не лезь бездумно напролом.
Запомни: и под силачом
Земля бывает скользким льдом.
Стрелу напрасно не пускай,
Знай: время выстрелить придет.
Слова на ветер не бросай,
Знай: время высказать придет.
Коль есть стрела, чтобы стрелять,
Стреляй, прицелившись, сынок.
Коль есть слова, чтобы сказать,
Скажи, подумавши, сынок.
Свершив дела, спеши домой,
В края алтайские вернись...
Ну, а теперь, родимый мой,
Назад, мой мальчик, обернись».
И Когюдей-Мерген назад
Свой соколиный бросил взгляд.
А повернулся он опять —
Стоит шалаш, тепла зола,
Нигде старушки не видать,
Исчезла, точно не была.
Снимает шапку Когюдей —
И всем сплетениям корней,
Горам, что времени мощней,
И рекам, что небес синей,
Земле, что матери родней,
Отчизне дорогой своей,
Раскрыв свои; ладони, он
Тут положил земной поклон...
Песнь вторая
Алып, решителен и смел,
В седло богатое взлетел.
И черное, как ночь, копье
Собой закрыло лунный лик,
А бронзовое острие
Затмило блеском солнца лик.
Могучий темно-сивый конь
Над пышною травой спешит,
Прекрасный белогривый конь
Под буйною листвой летит.
Передний след его копыт
Цветами белыми покрыт,
А задний след его копыт
Цветами синими увит.
Как свет мгновенный, он сверкнет—
И на реке плеснет волна,
Стрелою быстрою мелькнет —
И дрогнет горная стена.
Танцуя, темно-сивый конь
Подобно молнии летит.
Сияя, легкий, как огонь,
Алып в седле своем сидит.
Его златоподобный лик
Луны полуночной светлей.
Его среброподобный лик
Дневного серебра ясней.
Тьма чернобархатных бровей,
Лицо — маральника красней.
Он оставляет за спиной
Свои края — Алтай родной.
Коня дыханье — белый пар —
В долины пышные течет.
Лицо алыпа, как пожар,
Затмило синий небосвод.
От стука четырех копыт
Четырехкратный гром летит.
А; голос всадника силен,
Подобен крику трех племен.
Взлетают валуны колен —
Скакун без выстойки идет.
Веселый Когюдей-Мерген
В седле играет и поет.
Протяжно богатырь запел,
На дудке заиграл своей,
И лес листвою зашумел
Густых бесчисленных ветвей.
Запел 1 протяжно, звонко он,
На дудке громко заиграл,
И тут же каменистый склон
Цветами жарко запылал.
Он летней ночью начал петь,
Он зимним днем закончил петь
Луну заставил он играть
На лбу прекрасного коня.
Заставил солнышко плясать
На крупе славного коня.
Минуя горы и тайгу,
О лете по воротнику
Он узнавал, алып родной,
А зиму чувствовал спиной.
По землям сорока племен,
В дуду играя, проскакал.
И земли тридцати племен
В глуби Алтая миновал.
О нем кезеров шестьдесят
На всем Алтае говорят,
О нем каанов пятьдесят,
Кто он, не зная, говорят.
Так удивляются они,
Так восхищаются они:
«Ээй, наверное, батыр
Освободит подлунный мир,
Прольет он кровь Кара-Кула,
Избавит всех людей от зла».
Неизмерима радость их.
На лучшие надеясь дни,
Остались в стойбищах своих
У очагов своих они.
Конь шестьдесят высоких гор
Преодолел во весь опор.
Прервал на миг могучий бег
Семидесяти бурных рек.
Скрывающая свет луны
С полуночи и до утра,
Предстала с южной стороны
Девятигранная гора.
И на макушке той горы,
Затмившей звездные миры,
Что от снегов белым-бела,
Встал темно-сивый, как скала.
Могучий Когюдей-Мерген
На землю прыгнул из седла,
Встал, не размяв своих колен,
Речь такова его была:
«Мой конь, у гор ты для меня —
Моих подмышек два крыла.
У бурных рек ты для меня —
Моих подмышек два весла.
Судьбою нам с тобой дана
Земля, и жизнь, и смерть одна.
Мой легконогий верный друг,
Что видел-слышал ты вокруг?»
Скакун сказал: «Постой, алып,
Здесь у подножья черных глыб,
Плечом касаясь к брату брат,
Кезеры страшные стоят.
Скрывающегося в тени
Эрлика — воины они.
Стой, мой хозяин, посмотри:
Подземные богатыри,
Глотающие лунный свет,
В их костяках суставов нет.
Проклятые, они коней
Давно привыкли убивать,
Нечистые, они мужей
Привыкли наземь повергать.
Уже седьмой десяток лет,
Как мимо них дороги нет.
Всем, кто идет-проходит тут,
До мозга голову пробьют
Чугунным молотом своим,
Тяжелым ломом золотым,
А голодны — живьем сожрут.
Такой рубеж поставил тут
Землею правящий каан,
Кровавоглазый великан,
Исчадье темноты и зла
По имени Кара-Кула».
«Путь до погибельного дня
С рожденья — не наоборот.
Ни за тебя, ни за меня
Никто на свете не умрет.
Ну, темно-сивый, стой-держись!
Плен унизительный — не жизнь.
А смерть геройская—не плен!» —
Промолвил Когюдей-Мерген,
Взлетел в седло; минуя склон,
Подъехал к двум кезерам он.
Чугунный молот до небес
Взметнули с грохотом они.
Лом тяжеленный до небес
Взметнули с хохотом они.
Алыпу темя размозжить
Уже прицелились они,
Коню широкий лоб пробить
Уже примерились они.
Но под удар не угодил
Алып, коня он своего
Одним движеньем осадил
И на дыбы взметнул его.
Кезеры смотрят на коня:
Он легче ветра и огня,
Ушами режет облака,
Как глыбы — крепкие бока,
Округлый карий левый глаз,
Как солнце, скрытое звездой,
Округлый желтый правый глаз —
Луноподобен, золотой.
Кезеры злобные стоят,
Теперь на всадника глядят,
И видят, что у седока
Могуча левая рука,
И видят, что у ездока
Как туча — правая рука.
На крепко сложенной спине
Просторно, как среди степей.
Алыпа круглый лик в огне,
Глаза вечерних звезд ясней.
Весь чистым золотом покрыт.
В глазах от пуговиц рябит.
Один алыпа взгляд и вид
Сто тысяч в бегство обратит.
Как сталь, копыта у коня,
Не убоится он огня.
Алып от духа гор рожден,
Не устрашится смерти он.
Поднявши плетку, Когюдей
Приветствует богатырей:
«Ты, парень, вроде бы здоров,
Не искрошился ряд зубов,
Скажи, зачем тогда нужна
Тебе клюка из чугуна?
И ты, парнишка, не убог,
Имеешь пару крепких ног,
И у такого мужика —
Зачем чугунная клюка?
Про вас в народе говорят,
Что убиваете коней.
Про вас во всех краях твердят,
Что пожираете мужей.
Ну, что же — моего коня
Убить хотите или нет?
Хотите, может, съесть меня?
Скорее дайте мне ответ!»
Глаза двух воинов горят,
Кезеры злобно говорят:
«Сейчас, проезжий весельчак,
Башку положишь на рукав.
И набок рухнет аргамак,
Не мять ему зеленых трав!»
И тяжким колом, изловчась,
Алыпа стукнули они,
И колотушкою меж глаз
Коня ударили они.
Когда ударили коня —
Гром грохотал четыре дня.
Сломался молот на куски,
Упал у Тойбодым-реки.
Над богатырским мощным лбом
Сломался тяжкий острый кол,
И, земли сотрясая, гром
Семь дней не умолкал, тяжел.
Лом, развалившись на куски,
Упал у Тойбодым-реки.
Не преклонил скакун колен,
Хохочет Когюдей-Мерген:
«Наврали, видно, мне про вас,
Из красных слов сплели рассказ,
А ну-ка, вас ударю я,
О, порождения вранья!»
Кезеров за косички взял,
Тяжелой плетью исхлестал
И мелко так рассек тела —
Клочка сорока не нашла,
Куска ворона не взяла...
Алыпа лик красней огня.
Туман — дыхание коня.
Он меряет из края в край
Сереброкаменный Алтай...
У толстых пяток черных гор
Увидел он: морской простор
Исходит паром, ядовит,
Смолою желтою кипит.
За тридцать месяцев пути
Его вокруг не обойти —
Так это море пролилось,
В небесный купол уперлось,
В подземном нижнем мире с ним
Соединился Тойбодым.
Вороны на больших крылах,
Летя над ним, сгорают в прах.
Зверье на четырех ногах,
Упав в него, сгорает в прах.
Бушует море триста лет,
Прохода нет и брода нет.
Преграда на пути была
В поганый стан Кара-Кула.
Преграду эту создала
Кара-Таади — исчадье зла,
Любимая Эрлика дочь,
Злодейка черная, как ночь.
Дорогой следуя своей,
Подъехал к морю Когюдей
И был немало удивлен,
Когда вблизи увидел он;
Кезер на берегу сидел,
Рыбачил, на воду глядел,
Наживкой на крючке была
Башка рогатого козла.
Подъехал ближе Когюдей
И рыбака спросил: «Ээй!
Скажи мне, парень, где тут брод?»
Кезер открыл огромный рот,
И был ответ его таков:
«Спроси у старших рыбаков».
По берегу проехал он,
Остановился, изумлен,
Когда в тумане разглядел:
Еще один рыбак сидел,
Свисала с черного крючка
Башка ушастого телка.
К нему подъехал Когюдей,
Спросил его: «Скажи скорей—
Как переправиться, где брод?»
Кезер сказал: «Езжай вперед.
Там поглавнее есть рыбак,
Он все расскажет — что и как».
И далее проехал он,
Был изумлен и удивлен,
В тумане снова разглядел:
На берегу кезер сидел,
Была на острие крючка
Башка трехлетнего быка.
Спросил кезера Когюдей:
«Скажи мне, парень, поскорей,
Хоть ты мне, что ли, дай ответ —
Есть переправа или нет?»
Кезер по-бычьи замычал
И по-медвежьи заворчал:
«Глупее мог найти вопрос?
Ты что — ослеп, паршивый пес?
Какой еще тебе ответ?
Сам видишь — переправы нет!
Чего здесь надо дураку?
Орешь, мешаешь рыбаку!
Отстань, негодный, от меня!
Двум воронам глаза коня
Скорми — и он увидит брод
Через кипенье желтых вод.
Отстань, проклятый, от меня!
Коросты на боках коня,
Болячки всякие сдери
И двум сорокам подари,
Они тебе покажут брод
Через кипенье желтых вод».
«Ты что же, на слепом коне
Поехать предлагаешь мне?
На запаршивевшем коне
Сам езди по своей стране.
В кипенье ядовитых вод
Кого же ловишь ты, урод?
Что, если скажешь, где тут брод,
Язык отсохнет, лопнет рот?
Коль скажешь добрые слова —
Дырявой станет голова?»
Алып рассержен, возмущен,
И рукоятью плетки он
Сидящего в затылок ткнул
И в море с берега столкнул.
Тот до воды не долетел,
Воспламенился и сгорел.
Алып хотел уже назад
Коня от моря повернуть,
Два желтых ворона летят:
«Отдай глаза—укажем путь!»
И только он решил назад
Отъехать от проклятых вод,
Сороки желтые летят:
«Коросты дай—укажем путь!»
Ответил Когюдей: «Отдам».
И вмиг по разным сторонам
Те птицы, с криком разлетясь
И вмиг обратно возвратясь,
Алыпу злобно говорят:
«Вернись назад, вернись назад!
Нигде у моря нет конца.
Любого сжарит храбреца.
Внизу с ним слился Тойбодым.
Глаза коня давай, съедим!»
Сороки желтые твердят:
«Вернись назад, вернись назад!
Нигде у моря нет конца.
Сожжет любого удальца.
Вверху кипенье желтых вод
Уперлось в синий небосвод.
Нигде нет брода, так и знай,
Коросты конские давай!»
Алып разгневанный сказал:
«Вот вам коросты, вот—глаза!»
И бросил им два уголька,
Коры сосновой два куска.
Сороки давятся корой,
А злые вороны — углем.
Он плеть хватает той порой,—
Раздался свист, пронесся гром,—
И поглотила птиц вода,
Они сгорели без следа.
Тут темно-сивый конь сказал:
«Наверно, мой черед настал.
На расстоянье в год пути
Назад придется отойти.
С разбега, сделав этот путь,
Попробую перемахнуть
Я море желтое, а нет —
Прервется здесь навек наш след».
Воитель повод натянул,
Коня обратно повернул.
Им за день удалось пройти
Дорогу в тридцать дней пути.
Тут Когюдей-Мерген назад
Свой соколиный бросил взгляд:
У толстых пяток черных гор
Морской виднеется простор,
Исходит паром — ядовит,
Смолою желтою кипит.
Конь темно-сивый говорит:
«Короткий сделали мы путь,
Мне моря не перемахнуть».
За десять дней — годичный путь
Легко проделали они,
Остановились отдохнуть
Под кедром в голубой тени.
Тут глянул Когюдей-Мерген —
За чередою горных стен,
За чередою вечных гор
Увидел соколиный взор —
Сияет море желтизной,
Качает огненной волной,
Смертельный источает зной.
Алып могучий, молодой
Тут плетью вытянул коня,
В обратный путь его гоня.
Распластываясь, конь бежит,
Степь буйнотравная дрожит.
Вытягиваясь, конь летит,
Даль каменистая гудит.
На горы ступит быстрый конь —
Из-под подков летит огонь.
Следы — в полях чреда озер.
Он сорок недоступных гор,
И пятьдесят крутых стремнин,
И шестьдесят больших долин
В единый миг преодолел
И Когюдею так велел:
«На берегу, хозяин мой,
Плотней глаза свои закрой!»
Алып глаза свои закрыл,
Луку руками ухватил,
Когда опомнился, взглянул —
Уж море конь перемахнул.
Вокруг, куда ни кинешь взор,—
Пустой безжизненный простор.
Глухую даль белым-бело
Песком сыпучим занесло.
И солнца лик скрывает мгла,
Как жар — холодная зола.
И в восхищенье: «Конь так конь!» -
Тут Когюдей-Мерген сказал.
И в удивленье: «Муж так муж!» —
Тут белогривый конь сказал.
Лицо алыпа — как пожар.
Туман — дыхание коня.
К зловещим скалам Дьер-Дьюмар (30)
Приехали к закату дня.
Здесь между небом и землей,
Между сиянием и мглой,
Как два свирепые быка
С загривками под облака —
Две расходящихся скалы,
Две вмиг сходящихся скалы,
Птиц луннокрылых целый стог
Лежит у черных бычьих ног.
Лежат, как россыпи камней,
Тела раздавленных зверей.
Летящий ветер много лет
На части рубит две скалы,
И свет луны, и солнца свет,
Сшибаясь, режут две скалы.
От тех, кто проходил туда,
Лишь куча ног осталась тут.
От тех, кто проходил сюда,
Гора голов осталась тут.
И всюду бурелом костей
Коней погибших и людей.
Тут не пройти, не проползти,
Не проскочить, не пролететь;
Кара-Кула закрыл пути
И сторожем поставил смерть.
Подумал Когюдей-Мерген,
Туда коня направил он,
Где старый — тридцати колен —
Над миром тополь вознесен.
Седло и хлопковый потник,
Узду воитель снял с коня.
«Пасись, гуляй четыре дня,
Найди целительный родник
И там в течение трех дней
Воды живительной попей.
Моих подмышек два крыла,
Нас ждут великие дела,
На крупе мяса нарасти,
Нас ждут нелегкие пути».
Коня пустил, и в тот же миг
Алып улегся на потник,
Укрылся шубою своей
И беспробудно спал шесть дней,
А на седьмой увидел сон:
Великим солнцем осенен —
Родной Алтай, родной народ
Свободно, радостно живет.
Отец и мать его вдвоем
В аиле каменном своем
Сидят добры и веселы, *
Их лица ясные — светлы...
Как явь увидев этот сон,
Проснулся и поднялся он,
Невдалеке от страшных скал,
Оказывается, он лежал.
Досады горькой не сдержал,
Унять печали не сумел,
Он горько, громко закричал,
Печально, грозно заревел;
Тот крик куски огромных скал
Обрушил с поднебесных гор,
Тот рев до капли расплескал
Всю воду десяти озер.
Услышав богатырский вой,
Дрожат шулмусы под землей.
Заслышав богатырский крик,
Заволновался злой Эрлик.
Заря средь ночи занялась,
Земли поверхность сотряслась.
Кезеры двадцати племен
В неведенье, изумлены.
Кааны тридцати племен
Испуганы, удивлены.
Воители далеких стран
Задумались, заслышав вой:
Ревет Кара-Кула каан
Или алып кричит другой?
Тут Когюдей прервал свой крик,
Потряс уздой, призвал коня,
И тут же перед ним возник
Конь белогривый в свете дня.
Литая грудь его — крута,
Стена зубов его — бела,
Спина от гривы до хвоста
Сплошным сияньем залита.
Увенчан гривою густой,
Пушистой шерстью золотой
Покрыт от холки до копыт,
Ушами прядая, стоит.
Заржет — летит в долины гром,
Отмечен солнечным тавром.
Тряхнет могучей головой —
Смешает тучи с синевой.
Глаза его как две луны —
Сияют — издали видны.
Тут Когюдей коня взнуздал,
Затем обтер и заседлал,
На темно-сивого взглянул —
Клыкастый конь заматерел,
Сам на себя алып взглянул,
И оказалось — пожелтел,
Как будто ржавчиной покрыт,
Слабее прежнего он стал.
Был столько дней силен и сыт,
Теперь совсем оголодал.
И Когюдей-Мерген с торок
Подобный облаку мешок
Вмиг торопливо отвязал,
Две плитки сырчика достал.
Старушка мудрая его
Сготовила из молока
Алтын-Тарги (31)
для своего
Алыпа, славного сынка.
От большей плитки отломил —
Сил вдвое больше ощутил,
От меньшей плитки откусил —
И вдесятеро больше сил.
Алып в седло легко вскочил
И начал парою удил
Во рту коня звенеть-играть,
За золотую рукоять
Он ухватил витую плеть
И, повелев стрелой лететь,
По крупу вытянул коня,
До страшных скал его гоня.
Распластываясь, конь бежит,
Вытягиваясь, конь летит,—
И всколыхнулись небеса,
Согнулись вечные леса.
И ворон где не пролетал,
Над голой, выжженной страной,
Где сокол быстрый не мелькал,
Над желтой дальней стороной,
Конь точно ветер просвистел,
Туманом белым пролетел.
И не успел алып вздохнуть,
И глазом не успел моргнуть —
Конь промелькнул меж страшных скал
И на горе высокой встал.
Здесь, у подножия горы,
Черна, как ночь, река текла,
Рос черный тополь без коры
С листвою серой, как зола.
С горы кровавый тек туман
На землю, что была гола.
Тут жил кровавый великан
По имени Кара-Кула.
Алтайских шестьдесят племен
Кара-Кула поработил,
Подлунных семьдесят племен
В своих рабов он превратил.
Черна река — бурлит, ревет,
По берегу, мыча, бредет,
Как галька, разномастный скот.
На берегу ее другом
Средь бела дня черно кругом —
Как черный уголь, черный скот,
Как стаи воронов, народ.
Алыпы и кезеры тут —
Жабообразные идут,
И слуги, и зайсаны тут —
Змееподобные ползут.
Верблюдов черная гряда
Траву железную жует,
И яков мрачные стада
Затмили синий небосвод.
Железной изгороди тьма,
За нею виден белый скот.
Стоит железная тюрьма,
И светлоликий в ней народ.
Вдали, скотом окружена,
Там юрта бедная одна,
Мала, как сердце, жилкой дым
Восходит к небесам чужим.
Старушка древняя видна,
Гребет лопатою навоз,
Шестидесяти лет она,
И ум ее ослаб от слез.
В доху с заплатами одет
Старик семидесяти лет,
Он с суковатым батогом,
Качаясь, ходит за скотом.
Другие видятся места:
Там, средь черного скота,
Где скученно живет народ,
Угрюмо бродит взад-вперед
Девятилетний черный бык,
Как туча грозная, велик.
Рога огромного быка
Пронзают в небе облака,
Его тяжелый длинный хвост
Вздымает пыль до синих звезд.
Негодный, левый рог его
Костьми быков облеплен весь.
Проклятый, правый рог его
Костьми людей облеплен весь.
И женщина сидит верхом
На нем в седле берестяном.
Надета шапка до бровей
Из перьев филина на ней.
Ее лица — угля черней —
Не просветляет лунный свет.
Ее лица — ночей мрачней—
Не зажигает солнца свет.
Одежда из шаманских лент,
Как дым, струящийся во мгле.
Коварства и злодейства след
Лежит на молодом челе.
В ушах две медные серьги
Висят, как будто котелки,
Шаманский бубен за спиной
Гудит-гремит берестяной.
Поводья — мертвая змея,
Из змей живых большая плеть.
Склоняясь набок и смеясь,
Колдунья начинает петь.
Смеясь игриво, скалит рот,
Визгливо женщина поет.
Она бессчетный черный скот
Живой змеиной плетью бьет,
И колотушкою она
В неволе держит племена.
Стогранный каменный аил
Глаз солнца ясного закрыл.
Высоко в небеса ушел
Железной коновязи столб.
Вокруг скота, у всех дорог
Полно зайсанов, как сорок.
Вокруг людей со всех сторон
Кезеры — стаями ворон.
Тут Когюдей коня спросил:
«Чей этот каменный аил?
Чьи эти голые поля?
Чья эта черная земля?»
Скакун такую речь ведет:
«Неисчислимый белый скот —
Стада, отары, табуны
И многочисленный народ
С обличием светлей луны —
Народ родителей твоих
И скот неисчислимый их.
Старушка эта — мать твоя,
А этот старец — твой отец.
В становище Кара-Кула
Мы прискакали наконец.
А на быке вон там видна
Кара-Таади — его жена.
Охотится Кара-Кула,
Его жена вершит дела».
Воитель дальше бросил взгляд:
В недосягаемой дали
Семь желтостенных юрт стоят
На грани неба и земли.
И светятся, как семь огней,
У коновязи семь коней.
Спросил алып: «Что это там?»
Ответил конь: «Владенья лам.
Есть книга мудрая у них
Про всех властителей земных.
Легко по книге той найти—
Где перервутся их пути».
...Каана черная жена
Узнала то, что не узнать,
И разгадала все она,
Что невозможно разгадать:
На стойбище Маадай-Кара
Встал на крыло птенец орла.
Отцом ему была гора,
Береза матерью была.
В тени листвы, меж горных глыб
Не сгинул не попавший в плен,
И вырос молодой алып —
Могучий Когюдей-Мерген.
Его слова звучат, как гром,
Лицо сияет, как луна,
Его глаза горят огнем,
И грудь его ума полна.
Он все преграды миновал,
Не устрашился черных скал,
Теперь каан Кара-Кула
Положит на рукав башку.
И серый конь исчадья зла
Теперь подохнет на скаку.
Алып освободит народ,
Угонит свой бессчетный скот,
За мать свою и за отца
Он будет биться до конца.
Каана подлая жена,
Коварно думает она:
«Я мужа не предупрежу
И этой правды не скажу.
Пусть Когюдей угонит скот,
Домой родителей вернет
И мужа моего убьет.
Тогда настанет мой черед,
Тогда достигну своего
И выйду замуж за него.
Жить на земле привыкла я,
В подземный мир не опущусь.
Люблю подлунные края,
К Эрлику я не возвращусь».—
Вот так задумала она,
Каана мерзкая жена.
Но не узнать и в свете дня
Алыпа и его коня —
Послышался короткий стон,
Алып на землю пал ничком
И обернулся тут же он
Тастаракаем-бедняком (32).
Упал на землю верный конь
Вслед за алыпом молодым
И обернулся тут же он
Торбоком (33)
синим и худым.
Бедняк в седле берестяном,
Рванье холщовое на нем,
Торбока прутиком хлестнул,
С горы в долину повернул.
Конек худой с горы идет,
Тастаракай в седле поет.
Протяжно, звонко он запел —
Сухой кедрач зазеленел,
Запел красиво, звонко он —
И запестрел цветами склон.
И эту песню бедняка,
Летящую издалека,
Услышала Алтын-Тарга
И отошла от очага,
Сказала, двери отворив:
«Родной напев, родной мотив
До боли за душу берет.
Послушай, кто это поет?»
Поет бедняк Тастаракай,
Летят слова из края в край.
И голос, звонче серебра,
Достиг ушей Маадай-Кара.
«Негодник, звонко так поет —
Тревожит, за душу берет...
Судьба в страну Кара-Кула
Его откуда занесла?»
Алыпа испытать позлей
Решила Эрлик-бия дочь:
И семь десятков кобелей,
Свирепых, черных, точно ночь,
Она спустила на него
И натравила на него.
Хотели в клочья разорвать
Они коня и седока,
Пустились за ноги хватать,
Кусать торбока за бока.
Алып в одежде бедняка
Их начал прутиком хлестать,
Рассек им спины до костей,
И стая черных кобелей
Сбежала, жалобно скуля,
Ногами еле шевеля.
Колдунья черная опять
Решила парня испытать.
Тут стала даль еще черней,
Тут стала степь еще мрачней —
То семьдесят быков по ней
Огромных — каждый как скала,
Вперед колдунья погнала.
Встает от топота быков
Пыль выше белых облаков,
Идут торбока забодать.
Бедняк в седле берестяном
Их начал прутиком хлестать.
Так сек, что мясо от костей
Поотставало у зверей.
Ревя, как малые телки,
Ушли свирепые быки.
Подъехал к коновязи он,
К нему бегут со всех сторон
Зайсаны черные, кричат:
«Тастаракай, пошел назад!
Не место кляче у столба,
Не место в юрте для раба!»
В другие двинулся места,
Но у загонов для скота
Кезеры черные кричат:
«Тастаракай, пошел назад!
У нас огромные быки,
И каждый зол, и всякий лют,
Они торбока на куски,
На клочья мигом разорвут.
Быстрей отсюда уезжай,
Иль будешь пешим, так и знай!»
Поехал дальше он, гоним,
И там «коня» остановил,
Где оказался перед ним,
Как сердце, маленький аил.
Он дверь из дранки отворил,
Вошел в родительский аил,
Сел, шапку войлочную снял,
Учтиво, вежливо сказал:
«Хозяева, эзен, эзен!
Почтенные, эрмен, эрмен! (34)
К вам, проезжая этот край,
Заехал я, Тастаракай».
«Ну, здравствуй, здравствуй, паренек!
Наверно, путь твой был далек?
Поведай — из какой земли
Тебя дороги привели?
Располагайся отдохнуть.
Скажи — далеко ль держишь путь? » —
Старик Маадай-Кара спросил,
Седой алып проговорил.
Сказал Тастаракай в ответ:
«Ээй, почтенный, много бед
Творят кааны в наши дни,
Злы и воинственны они,
Зверью безумному сродни.
И как узнаешь наперед —
В каком краю погибель ждет?
Хозяева, скажу я вам,
Хочу узнать у желтых лам —
Где спрятана душа моя.
За этим и поехал я
Из-за семидесяти гор,
Из-за бесчисленных долин,
Через лесной, степной простор,
Через полет речных стремнин,
Сквозь моря ядовитый жар,
Меж скал зловещих Дьер-Дьюмар.
И на пути заехал к вам,
Ища владенья желтых лам.
Проделав многолетний путь,
Маленько надо отдохнуть.
Торбок колени подогнул —
Пускай пощиплет он травы.
Я в юрту вашу заглянул,
Меня не прогоняйте вы».
Алтын-Тарга молчит, она
Испугана, удивлена.
И старец слушал, изумлен,
Но, речь дослушав, плюнул он:
«Жирнее нету молока,
Чем у собаки, говорят.
Хитрее, чем у бедняка,
Ума не встретишь, говорят.
Не потому ль, что тощ и гол,
Меж скал зловещих ты прошел?
Не потому ль, что худ торбок,
Перелететь он море смог?
Будь гостем, парень, но смотри —
Поедешь дальше—так не ври...»
Тут принесла старушка-мать
Посуду — гостя угощать.
На углях подогрела в ней
Лягушек мясо, мясо змей,
Все это в чашку налила,
Тастаракаю подала.
Он чашку не донес до рта,
Глядь — а она уже пуста.
Маадай-Кара не углядел,
Когда он выпил все и съел.
Отставил чашку, говорит:
«Я отдохнул теперь и сыт.
Кто вдоволь мяса змей поест,
Тот славным станет, говорят.
Кто лягушатины поест,
Кааном станет, говорят».
Старик Маадай-Кара изрек:
«Ты не сердись, прости, сынок,
На нас с обидой не гляди.
Тут правит всем Кара-Таади.
Мы на тебя не держим зла,
Все зло здесь от Кара-Кула.
Чтобы огонь наш не зачах —
Помет бросаем мы в очаг.
А чтобы не пропасть самим —
Еду поганую едим.
И горше нашей жизни — нет,
Нас, стариков, на склоне лет
Злодей рабами сделать смог
И нами правит, словно бог...»
Слова почтенного отца
Алып дослушал до конца,
Поднялся с шумом, возмущен,
Аил покинул быстро он.
Когда обратно прибежал,—
«Ээй, почтенные,— сказал,—
Кто хочет есть, тот будет сыт.
Я тут приметил,— говорит,—
Девятилетнего быка —
Большого стада вожака.
На расстоянье в год пути
К быку тайком не подойти.
С пути недельного, видать,
Он разбегается бодать.
И все бы это — ничего,
Но вот задача — у него
На роге остром, как игла,
Людские сгнившие тела.
Коль не побрезговать и взять
Да шкуру черную содрать,
Освежевать быка, сварить,
То что за это может быть?»
Смеясь, сказал Маадай-Кара:
«Колоть быка пришла пора,
Ведь для приезда твоего
Каан выкармливал его!»
Тастаракай опять вскочил,
Из юрты с шумом поспешил,
И вынул острый нож складной,
И камень сжал в руке другой.
Быка ударил что есть сил,
До мозга голову пробил.
Бык враз колени подогнул,
Долину черную боднул.
Алыпа быстрый нож-томрок
Мгновенно глотку пересек.
Не мешкая, Тастаракай,
Не отдохнув, Тастаракай
Схватил быка за пару ног,
По камням с шумом поволок,
К дверям аила подтащил,
У ног отцовских опустил.
Седой отец заголосил:
«Эх, парень, что ты натворил!
Не знаешь ты — кого убил!
Сама Кара-Таади на нем,
Колдунья, ездила верхом!
Каан за этого быка
Убьет меня наверняка...»
Покуда горевал старик,
Тастаракай в единый миг
На части мясо разрубил,
В котел над очагом сложил.
Из шкуры две подпруги свил,
У ног отцовских опустил.
«Кааны в нынешние дни
Зверью безумному сродни.
И пара лишняя подпруг,
Коль кочевать придется вдруг,
Вам пригодится»,—так сказал,
Из юрты с шумом побежал
И с шумом он вернулся вмиг,
Сказал: «Послушай-ка, старик,
О чем хочу я рассказать:
Увидел невидаль опять —
Самца верблюда-вожака:
Как тополь, шея высока,
Горбы — две голые горы,
Клыки огромные — остры,
Брюшное сало вожака
Свисает точно облака.
Тяжелой тучности такой
И важной поступи такой
Ни у какой скотины нет,
Но на его коленях след
Того, что множество людей
Убил и растоптал злодей.
Коль, не побрезговав опять,
Самца-верблюда завалить
И шкуру с подлого содрать,
То что за это может быть?»
«Коль сила есть — тогда спеши,
И по дороге сам реши:
Из четырех верблюжьих ног
К какой прилипнешь ты, сынок».
Тастаракай легко вскочил,
Из юрты с шумом поспешил
И камень сжал в руке одной,
В другой — свой верный нож складной.
Тяжелым камнем подлеца —
Четырехлетнего самца —
Меж глаз ударил что есть сил,
До мозга череп проломил,
Верблюд свалился набок с ног.
Ножом Тастаракай-сынок,
Как будто молнией, взмахнул,
По шее зверя полоснул
И, ухватив за пару ног,
К аилу с шумом приволок.
Маадай-Кара загоревал,
Седой старик запричитал:
«Скажи, старуха, для чего
Я подзадоривал его
Убить верблюда-вожака?
Где разум был у старика?
Положит конь темно-гнедой
На гриву голову свою,
Я, воин старый и седой,
Теперь погибну не в бою.
Кара-Кула за вожака
Убьет меня наверняка...»
Покуда причитал старик,
Тастаракай в единый миг
С самца верблюда шкуру снял
И тушу вмиг освежевал,
На части мясо разрубил,
В котел вариться положил.
И быстро сделал два мешка
Из толстой шкуры вожака.
Алтын-Тарге мешки подал,
С почтеньем матери сказал:
«Кааны в нынешние дни
Зверью безумному сродни.
Бесправье, зло царит вокруг...
Коль кочевать придется вдруг,
Мешки сгодятся, может быть,
Чтобы посуду уложить».
Тастаракай, сказавши так,
Вмиг три долины обежал,
Валежник, сухостой-сушняк,
В три ветки обратив, собрал,
В аил отцовский притащил,
Огонь высокий распалил.
Огонь и жарок и высок.
Котел наполненный кипит.
Разделся парень и прилег,
И притворился будто спит.
Спина его обнажена.
Глядят Маадай-Кара с женой:
У парня родинка видна
С овечий глаз величиной.
«У ненаглядного сынка
Такая родинка была»,—
Промолвила Алтын-Тарга
И горько плакать начала.
Маадай-Кара, седой старик,
Печально головой поник:
«Как уродился он таким,
Откуда он и кто такой?
И почему с моим сынком
Схож этой родинкой большой?»
Так сокрушались старики,
Так горевали старики,
Горюя, плакали они,
Тут парень на ноги вскочил.
«Ээй, почтенные,— спросил,—
Вы горько плачете о ком?
С каким-таким я схож сынком?»
И вздрогнула Алтын-Тарга,
А вместе с ней Маадай-Кара,
Как будто враз два уголька
На них упало из костра.
Не поднимая глаз, сидят.
Скрывая правду, говорят:
«Ты, парень, молод и горяч.
Ты спал и принял смех за плач,
И принял шутки ты сквозь сон
За причитания и стон.
Как можно, парень, так шутить?
Такое старшим говорить?
Весенним днем любой торбок
Умеет весело скакать.
Веселый парень, ты бы мог
Удачней шутку подыскать.
Есть сын у нас, ты говоришь?
Убил верблюда и быка,
Со страха выдать норовишь
Себя за нашего сынка?
И нас ты хочешь, может быть,
Перед кааном обвинить?»
Торбок встряхнулся тут и вмиг
Он темно-сивым стал конем.
Бедняк встряхнулся и возник
Алып в обличии своем —
Прекрасный, сильный, молодой
Стал Когюдей самим собой:
Вновь светлолунное его
Лицо в сиянье золотом,
Лик яркосолнечный его
Сверкает чистым серебром.
Грудь, точно поле,— широка,
Как мощный кедр — его рука.
Лоб снега белого светлей.
Нос — как горы хребет прямой.
А полукружия бровей
Сравнимы с бархатною тьмой.
Ресницы — ели в куржаке,
Свет летних радуг на щеке.
Глаза — две синие звезды.
В урмане черной бороды
Ряды сверкающих зубов
Белей нетающих белков.
Язык — как пламя у него,
Красноречив алып-кюлюк,
Острее стрел слова его,
Пышнее, чем цветущий луг.
На пояснице, что крепка
И необъятно широка,
Смогли бы, только доведись,
Полсотни табунов пастись.
О хватке, если рассказать,
О силе, если говорить,—
Он может сопку оторвать,
Он может гору повалить.
Стан несгибаем у него,
Рожден могучим Когюдей,
Сильней алыпа — никого
Под солнцем нету из людей.
Суставы, каменно крепки,
Даны с рождения ему.
Не разогнуть его руки
В подлунном мире никому.
Когда он встанет в полный рост,
Десница вскинется мощна —
Затмится солнца свет и звезд,
Затмится полная луна.
Алыпа темно-сивый конь,
Прекрасный белогривый конь —
Красивей, преданней, верней,
Быстрее всех земных коней.
Литая, гладкая спина
Горит-блестит у скакуна.
Сто прядей темного хвоста
Касаются его копыт,
А грива пышная густа,
Как золотой поток висит.
Глаза — две полные луны.
Сквозь непроглядный мрак и тьму
Ему дороги все видны
И все пути видны ему.
Над легкой головой своей
Синь-облака средь бела дня
Стрижет он парою ушей,
Уздой богатою звеня.
Такого славный Когюдей
Имел прекрасного коня.
Не грохот падающих глыб,
Не грома рушащийся гул —
Прекрасный молодой алып
К своим родителям шагнул.
Ладонь широкую раскрыл
И за руку старушку взял,—
«О, здравствуй, мать»,— проговорил.
«О, мир тебе, отец»,— сказал.
Старуха мать, старик отец
Навстречу сыну поднялись,
Впервые в жизни, наконец,
У сердца — сердце, обнялись.
И счастливы отец и мать,
И выше счастья не сыскать —
Сынка в неволе повидать,
К груди тоскующей прижать.
«Берез алтайских сладкий сок
Меня с младенчества вспоил.
Алтын-Тарга, я твой сынок»,—
Алып счастливый говорил.
«Спасла от бед меня гора,
Родной Алтай меня взрастил.
Ты мой отец, Маадай-Кара»,—
Алып веселый говорил,—
Теперь уж вам, отец и мать,
Не горевать, не бедовать,
В неволе больше не бывать,
Домой готовьтесь кочевать.
Вы от сегодняшнего дня
Не беспокойтесь за меня.
За жизнь, что нищею была,
За свой народ взыщу вину,
Я отомщу Кара-Кула,
Я голову ему сверну.
Домой погоним белый скот,
Покинем нищенский аил,
Вернем на родину народ —
Я так, родители, решил.
Добьюсь того, чего хочу.
За чем приехал — получу.
Ну, а теперь, отец и мать,
Домой готовьтесь кочевать».
Покуда воин говорил,
Покуда речь текла, быстра,
Глаза в печали опустил
Старик отец Маадай-Кара.
Алтын-Тарга, старуха мать,
Стараясь виду не подать,
Взялась упрашивать сынка:
«Не по плечу тебе пока
Перебороть Кара-Кула,
Задача эта тяжела.
Родимый мой, сыночек мой,
Повороти коня домой...»
Едва договорила мать,
Старик стал сына умолять:
«Не торопись, сынок родной,
Обратно поезжай домой.
Не пощадивший никого —
Непобедим Кара-Кула,
Коварен, тело у него
Несокрушимо, как скала.
Он кровь народов льет рекой,
Пот подневольных пьет злодей,
Из черепа — его чёёчёй (35)
И посох из людских костей.
Он душу красную твою
Загубит, черный живоглот.
Главу прекрасную твою
Он с волосами оторвет.
Кара-Таади, его жена,
Любимая Эрлика дочь —
Узнает про тебя она.
Ты уезжай скорее прочь,
Пока не вызнала она
И не унюхала она,
И властвует в стране одна.
Не для того, не для того
Спасал я сына своего,
Не для того, не для того
Родной Алтай вскормил его,
Чтобы потешился злодей!
Сынок, домой езжай скорей.
Ты вдвое больше лошадей,
Не торопись, еще найдешь.
Таких, как мы с женой, людей
Откуда хочешь приведешь (36).
Коль суждено уйти — уйдем (37),
Но ты теперь вернись домой.
Коль помереть нам — тут умрем.
Не будь упрямым, мой родной...»
«Отец, я знаю: вскормишь скот,—
Достаток стадо принесет.
Поднимешь-вырастишь детей —
Для счастья старости своей.
Мои родные, очень рад,
Пройдя сквозь множество преград,
В аил родительский попал
И вас живыми повстречал,
Здоровыми увидел вас.
И я исполню ваш наказ.
Спасибо вам, отец и мать!
Быть может, встретимся опять...
В обратный путь теперь пущусь,
В родные земли возвращусь».
Он за края котел схватил,
Огромными глотками пил.
Куски верблюда-вожака
И мясо черного быка
Исчезли вмиг в провале рта,
Дошли, бурля, до живота.
Тут выплюнул он изо рта
Тяжелых множество костей,
А костяная мелкота
Повыскочила из ноздрей.
Алып с кошмы дырявой встал,
Своим родителям сказал:
«Съев мясо черного быка,
Я — отощавший, насыщен.
Сжевав верблюда-вожака,
Я — ослабевший, вновь силен».
Тут голове отца поклон,
Коленям матери поклон
Отдал с благодареньем он
И, попрощавшись, вышел вон...
Алып на землю пал ничком
И обернулся снова он
Тастаракаем-бедняком.
Упал на землю верный конь
Вслед за алыпом молодым
И обернулся снова он
Торбоком синим и худым.
Тастаракай в рваньё одет,
В берестяном седле сидит,
Ему родителей вослед
Благословение летит:
«Пускай имеющий язык —
Не оскорбит тебя, сынок.
Пусть ни шулмусы, ни Эрлик
Не победят тебя, сынок.
Пускай всегда ты будешь сыт,
Пусть не споткнется верный конь,
Пускай стрелою долетит
Домой твой темно-сивый конь...»
В рванье бедняк Тастаракай,
Зловещий покидая край,
В простом седле берестяном
Семь дней качается верхом.
К восьмому дню проехал он
Становья множества племен,
И скрыла расстоянья мгла
Владения Кара-Кула.
Даль перед ним так далека,
Что ворону не одолеть.
Степь перед ним так широка,
Сороке не перелететь.
Тастаракай в седле запел—
И луг цветами запестрел.
Протяжно, весело запел —
И лес листвою зашумел.
Песнь разливается, ее
В чащобе слушает зверье,
Забыв детенышей своих,
Своих зверенышей родных.
Оставив гнезда, вслед за ним,
Как туча, стая птиц летит.
Оставив норы, вслед за ним
Зверье, заслушавшись, бежит.
И легконог и златоглав
Бежит-танцует верный конь.
Не приминая пышных трав,
Галопом скачет верный конь.
...Все вызнала Эрлика дочь —
Колдунья черная, как ночь,
Про Когюдея до конца:
Он съел верблюда-вожака,
Четырехлетнего самца.
Он съел подменного быка.
Сидел в аиле у отца.
Теперь он скачет по долам,
Чтоб выведать у желтых лам,
Где спрятана Кара-Кула
Душа, исполненная зла.
«Теперь мой муж Кара-Кула
Положит на рукав башку.
Коню его не знать седла —
Подохнет серый на скаку.
Я мужа не предупрежу,
Ему про это не скажу.
Пусть Когюдей угонит скот,
Домой родителей вернет,
Тогда наступит мой черед,
И я достигну своего —
Я выйду замуж за него.
Жить на земле привыкла я —
В подземный мир не опущусь.
По нраву эти мне края —
К Эрлику я не возвращусь...»
Тверда под конскою ногой
Вершина золотой горы,
Тастаракай с вершины той,
Дугою вставшей под луной,
Взглянул в окрестные миры:
Неугасаемо-светла
Земля богатая была...
Невыгорающих камней
Пестреют россыпи на ней.
Ставосьмигранные хребты
Сияют, лунно-золоты.
Равнина белая видна
За черной крепостью-горой.
Морская синяя волна
С небесной спорит синевой.
Здесь по долинам и горам
Раскинулись владенья лам.
Семь одинаковых отцов,
Семь всемогущих мудрецов
Определяют наперед —
Кто, как и сколько проживет,
Чьей и когда кончины год,
Какая, где душа живет,
И что кого в грядущем ждет,
Какою смертью кто умрет.
Кааны множества племен
Ходили к ламам на поклон,
Упрашивали желтых лам:
«Скажите, — умоляли, — нам,
Как мирно и свободно жить,
Предел несчастьям положить?»
У коновязи семь коней,
У лучшей юрты — семь огней,
Семь мудрецов собрались в ней,
В граненой юрте золотой,
У ламы старшего на той.
А наш Тастаракай пока
В одежде рваной бедняка
Спускался медленно с горы.
Из летних листьев и коры
Сосуды сделал для вина.
Вот впереди в цветах, красна,
Поляна пышная видна.
Сорвал он семьдесят цветков —
Напиток пьяный сотворил,
Он рой пахучих лепестков
В вино хмельное превратил.
Тажууры (38)
с молодым вином
Он приторочил поскорей,
С горы в седле берестяном
Поехал с песнею быстрей.
Торбок нагруженный спешит,
Подпруга ивова шуршит,
Скрипит седло под бедняком,
Шапчонка драная на нем.
У коновязи желтой, там,
Где юрта старшего из лам,
Торбока он остановил,
Златые двери отворил,
Шапчонку войлочную снял,
Слова приветствия сказал.
И перед младшим ламой он
Застыл, почтительно склонен,
И перед главным мудрецом —
Земли дотронулся лицом.
Вино принес и тихо сел
В углу — услужлив и несмел.
Всевидцы пьяные галдят,
Семь желтых лам, смеясь, глядят
На нищенский его наряд,
Высокомерно говорят:
«Густо у суки молоко,
Богатый разум у раба!
Зачем, скажи, так далеко
Тебя забросила судьба?
Дороги из какой земли
Тебя, бродяга, привели?»
«Мой путь был труден и далек,
Преодолел его торбок.
Торбока синего догнать —
Таких под солнцем нет коней.
Я — богатырь, хочу узнать
О жизни будущей моей.
Кааны в нынешние дни
Зверью безумному сродни —
Злы и воинственны они.
К вам за советом прибыл я.
Чтоб не прервалась жизнь моя,
Что надо делать, как мне жить -
У вас узнаю, может быть?
Наполнил юрту шум и гам,
Семь пьяных мудрых желтых лам,
Смеясь, хватались за бока,
Слова услышав бедняка.
"Да, богатырский твой торбок
Сильнее всех земных коней,
А ты, Тастаракай-сынок,
Мощнее всех богатырей!
Бесценны жизни вашей дни,
Для всей земли важны они.
Какой ты молодец, сынок,
Что, не жалея конских ног,
Алтай великий пересек,
Узнать судьбу приехал к нам,
Проведал одиноких лам!" -
Так ламы пьяные галдят,
Так, насмехаясь, говорят:
"Побудь у нас хоть пару дней,
Нас защити и обогрей.
Устали думать мы без сна,
Уж нету сил налить вина.
Когда захочешь покурить,
Огня не можешь раздобыть,
Золой покрылся наш очаг,
Затмился свет у нас в очах,
Кругом такая темнота -
Чёёчёй проносишьмимо рта!.."
Остался парень в юрте жить,
Великим мудрецам служить.
Несет в ладонях уголек,
Чтоб прикурить почтенный мог,
И каждому вина нальет,
С красивой песней подает,
Пить захотят — несет воды.
Такие у него труды.
Прямее дудки он сидит,
Великим ламам в рот глядит,
Желание — опередит.
Тастаракай не ест, не спит,
Всевидцев молодым вином
И ночью потчует и днем.
Протяжно, весело поет,
За чашкой чашку подает.
И вот, блажен — и пьян и сыт,
Великий лама говорит:
«Давно кааны всей земли
Дорогу в наш аил нашли,
И каждый о своей душе
Спросил с почтением уже.
И лишь Кара-Кула каан,
Кровавоглазый великан,
У нас, однако, не бывал
И о душе не узнавал.
Конечно, кровь Кара-Кула
В боях на землю не текла,
Душа за долгие года
Не прерывалась никогда.
Не потому ль, спесивый, он
К нам не приходит на поклон?»
Другого ламы речь была:
«Мы о душе Кара-Кула,
Видать, не знаем ничего,
А потому и нет его.
Свою судьбу он знает сам
И не тревожит желтых лам».
Тут третий лама их прервал,
Мудрец всевидящий, сказал:
«Не знает о судьбе своей
Всепоглощающий злодей.
Но нету проще ничего,
Чем о судьбе узнать его:
На дне небес, где вечный мрак,
Сияют звезды Юч-Мыйгак (39)—
Три Маралухи, и в одной
Запрятан ящик золотой...»
Четвертый лама перебил
Всевидящего мудреца:
«А в ящике — ты не забыл?—
Перепелиных два птенца.
В одном душа коня его,
В другом — каана самого.
И если тех птенцов поймать,
Посередине разорвать,
Каана жизнь и жизнь коня —
Прервутся до заката дня».
Но пятый лама тут вступил,
С сомнением проговорил:
«Судьба его такая. Но
Подняться людям не дано
В холодный занебесный мрак,
Достичь созвездья Юч-Мыйгак
И у одной из маралух
Достать сундук из живота...»
Шестой мудрец подумал вслух:
«Задача эта не проста.
Но соблаговолит судьба
Алыпу даровать успех,
Коль мараленка Андалба (40)
—
Телка небесных самок тех —
Сумеет он в тайге поймать
И станет мучить-донимать,
Теленок примется кричать,
Трех маралух небесных звать.
Достигнет занебесья крик,
И вот тогда, на краткий миг,
На землю спустятся они.
И могут тут прерваться дни
Зловещего Кара-Кула,
Коль богатырская стрела
Распорет брюхо самки той,
В которой ящик золотой,
Коль богатырская рука
Поймает, разорвет птенцов —
Каан умрет наверняка,
Настанет мир в конце концов.
А мараленок спрятан тот,
Где у слиянья синих вод
Был раньше каменный аил,
Где со своим народом жил
В сиянье славы и добра
Седой алып Маадай-Кара...»
Седьмой мудрец заговорил,
Обеспокоенный, — вскочил :
«Ээй, покуда речь текла
Тут о душе Кара-Кула,
Тревожно стало почему
Большому сердцу моему?»
Так обо всем бедняк узнал,
Все речи разумом впитал.
В чёёчёях горькое вино
Еще проворней подает,
Вручая пьяное вино,
Еще красивее поет.
Последний опустел сосуд...
В холщовой одежонке тут
Из юрты выбежал бедняк,
Вскочил в седло, воскликнул так;
«Прощайте, желтые отцы!
Спасибо, ламы-мудрецы!»
Понуро пасшийся торбок
Ударил парой задних ног
И вместе с всадником исчез.
Касаясь гривою небес,
Копытом задевая лес,
Пропал, как быстрая стрела,
Пути его укрыла мгла.
Семь желтых лам удивлены,
Семь мудрецов изумлены.
И лунную сутру они
Достали, начали листать,
И книгу мудрости они
Взялись внимательно читать.
Разобрались, перелистав,
Про все узнали, прочитав;
Сын старика Маадай-Кара,
Сказала лунная сутра, —
Теперь всевидцев посетил
И мудрецов перехитрил.
И, о душе врага узнав,
Алып отправился домой,
Туда, где морем пышных трав
Алтай раскинулся родной.
Стрелою конь его летел,
Путь трехнедельный одолел.
Переглянулись мудрецы,
Сказали желтые отцы:
«Достигнет цели Когюдей,
Освободит своих людей.
Клыкастый конь, исчадье зла,
Наверно, рухнет на скаку.
Злодей каан Кара-Кула —
Положит на рукав башку...»
А храбрый Когюдей-Мерген,
Преобразившийся в орла,
Раскинул выше горных стен
Четыре мощные крыла.
Стал волком темно-сивый конь,
Среди долин, во мгле тайги
Чредой озер впечатал он
Четыре быстрые ноги.
Так до земли своей родной,
Не утомленные ничуть,
Они свершили за семь дней
Семидесятилетний путь.
Тут на землю орел упал —
Сорокарогий встал марал.
Бегущий волк к траве припал —
Тридцатирогий встал марал.
В заросший буйным лесом лог
Маралов черных путь пролег —
Деревья валят, с корнем рвут,
И день ревут и ночь ревут.
Сынок небесных маралух
Забился в заросли, затих
И, чутко затаивши дух,
Он с удивленьем слушал их.
«Какие звери, — думал он, —
В мой лог заходят с двух сторон?
И отчего они без сна
Ревут с темна и до темна?»
Стерпеть неведенья не смог,
Покинул заросли телок,
Взлетел на черную скалу
И дважды проревел во мглу.
И тут же, яростно дыша,
Рогами сухостой круша,
Лес выдирая из земли,
К нему маралы подошли.
Свои ветвистые рога
В бока небесного телка
Вонзили с ревом с двух сторон,
И жалобно взмолился он:
«Хотите вы меня убить!
Я вас обидел, может быть?
За что вдвоем средь бела дня
Набросились вы на меня?»
И в тот же миг один марал
Прекрасным аргамаком стал.
И Когюдеем тут же стал
Вослед за ним другой марал,
Свой настоящий принял вид
И мараленку говорит:
«Зла на тебя я не таю,
Кровь молодую не пролью.
Я сам воюю против зла,
Его несет Кара-Кула.
Зверь, пожирающий людей,
Всепоглощающий злодей
Угнал в неволю мой народ,
Украл мой разномастный скот.
Отец и мать мои в плену.
За эту тяжкую вину
Я расквитаюсь до конца,
Убью каана-подлеца.
Пойми, тебе мы не враги,
Тебе не сделаем мы зла,
Но ты добыть нам помоги
Злой черный дух Кара-Кула.
На дне небес, где вечный мрак,
Сияют звезды Юч-Мыйгак —
Три Маралухи, и в одной
Упрятан ящик золотой.
В нем два птенца на самом дне.
В какой бы ни был стороне —
Каана серый конь падет,
Живым каану не бывать,
Коль кто-нибудь птенцов найдет,
На части сможет разорвать.
И, я прошу тебя, мычи,
Как можно жалобней кричи,
И разбуди печалью слух
Трех поднебесных маралух».
В ответ теленок промычал,
Так мараленок отвечал:
«Я вижу, цель твоя светла,
Ты никому не хочешь зла.
Тебе, алып, я помогу,
Чтоб отомстить ты смог врагу.
Вон там, у моря, под горой,
Засаду тайную устрой,
Лук приготовь, сиди и жди
Да за вершиною следи.
Я стану жалобно кричать,
Трех маралух на помощь звать.
Мой жалобный услышав крик,
Они слетят на краткий миг,
На землю спустятся они.
Коль мимо стрельнешь — не вини,
Коль метко — не благодари.
Мир этим землям подари,
От зла Алтай оборони,
Покой на родину верни».
С корнями пышный мох содрав,
Толстенный дерн пластами сняв,
У моря, среди черных глыб,
Укрылся-спрятался алып,
Дыханье затаив, лежит.
Семь суток Андалба визжит,
Семь суток Андалба ревет,
Семь суток маралух зовет.
Вдруг—трех небес качнулась высь,
Печенки самок сотряслись
От сильной жалости к сынку,
Их призывавшему телку.
И тройка самок маралух,
Телами обратившись в слух,
Услышав крик сынка и вой,
Покинув звездные миры,
Застыла на вершине той
Шестиступенчатой горы.
Ждут, вечный страх переборов,
С какой из четырех сторон
Теленка донесется рев,
Раздастся мараленка стон.
В засаде Когюдей-кюлюк
Сидел, согнув могучий лук.
От напряжения того
Сошлись лопатки у него.
Семь суток он сидел без сна
С темна в засаде — до темна.
И тут он выпустил сквозь мглу
В трех маралух свою стрелу.
Живой огонь зажег ее
Стремительное острие,
А правый воина кулак
Ночным костром прорезал мрак —
Рой быстрых искр сверкнул на нем
Всеопаляющим огнем.
И зашумело дно небес,
И загудел алтайский лес,
Заря средь ночи занялась,
Земли поверхность сотряслась.
Живая красная стрела
Из маралух одну нашла,
Гремя, из маралухи той
Пал наземь ящик золотой,
И чутких самок след исчез
На дне глубоком трех небес.
Могучий Когюдей-Мерген
С затекших поднялся колен,
Вслед маралухам прокричал,
Печально голос прозвучал:
«Я против вас не мыслил зла.
Зло сотворил Кара-Кула,
Он захватил мой белый скот,
Поработил родной народ,
Старушка мать, старик отец
В неволе горькой у него.
Ищу пути я, наконец,
Убить каана самого!
Не из корысти или зла
Была в вас пущена стрела...»
Со дна небес, пройдя сквозь тьму,
Ответный крик летит к нему:
«Ты цели праведной своей
Скорей добейся, Когюдей!
Кара-Кула кроваво жил,
Злодей погибель заслужил.
Клыкастый конь, исчадье зла,
Теперь подохнет на скаку,
Наверняка Кара-Кула
Положит на рукав башку».
Мычанье маралухи той,
В чьем брюхе ящик золотой
Был рядом с печенью сокрыт,
До слуха воина летит:
«Я думала, спасенья нет:
Страдала я немало лет,
Был для меня болезнью злой
Проклятый ящик золотой,
Мученьем внутренностей был.
Но ты меня освободил.
Счастливых дней судьбе твоей,
Спасибо, славный Когюдей!..»
Алыпу отвечали так
Три маралухи — Юч-Мыйгак.
Тяжелый ящик золотой
Поднял алып над головой
Да изо всех могучих сил
На черный камень опустил,
Об триждыострый пуп земли
Проклятый ящик расколол,—
И волны по земле пошли,
Гул в подземельный мир дошел.
Заслышав грохот над собой,
Дрожат алмысы (41)
под землей.
Распался ящик золотой,
Перепелята взмыли ввысь,
На молодых своих крылах
Над синим лесом поднялись,
Исчезли в белых облаках.
«Что делать? Как тут поступить?
Как их поймать-остановить?» —
Подумал Когюдей, и вот
Он из кармана достает,
Бросает ввысь над головой
Девятигранный камень свой.
Непроницаемою мглой
Закрылся месяц молодой,
И черною завесой вмиг
Затмился солнца ясный лик.
Как черная вода густа —
На всем Алтае темнота.
Девятигранный камень свой,
Подброшенный над головой,
Поймал могучий Когюдей,
И нити солнечных лучей
Собрал в чудесный камень тот,
Заставил их играть, и вот,
Шагая быстро взад-вперед,
Свет на ладонях носит он.
Одновременно с двух сторон
Явились наши беглецы —
Перепелиные птенцы.
Увидев чистый свет-огонь,
Алыпу сели на ладонь.
Он их, не мешкая, поймал,
В кулак негодников зажал,
В платок широкий завернул,
В карман засунул боковой,
Луне и солнцу свет вернул,
Подбросивши над головой
Девятигранный камень свой,
И залил свет Алтай родной.
Свершив дела, в сиянье дня
Он сел на верного коня,
И к стойбищу Кара-Кула
Его дорога пролегла.
Передней парой стройных ног
Играет темно-сивый конь,
Танцует задней парой ног
Красивый белогривый конь.
Не приминая мягких трав,
Он легкой иноходью мчит,
Высоких не ломая трав,
Подобно ветру, он летит.
На дудке принялся играть,
Запел протяжно Когюдей,
Чтобы дорогу скоротать
К аилу матери своей.
Как пар — дыхание коня —
Переполняет дол и лес.
Алыпа лик светлее дня,
Он затмевает синь небес.
Горит в глазах его огонь,
Летит неудержимый конь.
Передней стукнет он ногой —
И четырехнедельный путь
У Когюдея за спиной.
Ударит заднею ногой —
Окажется годичный путь
За богатырскою спиной.
Дорогу в семь десятков лет
Конь за семь дней, как легкий свет,
Не прерываясь, пролетел,
Без отдыха преодолел.
Пустив коня по склону в пляс,
Поднялся на гору кюлюк.
«Места знакомые для нас —
Земля железная вокруг»,—
Сказал алып, взглянув с горы.
Железный тополь без коры
Роняет с грохотом листву.
Сквозь тучи видно синеву.
В железной изгороди скот
Обеспокоенно ревет.
И за решетками тюрьмы
Люд светлоликий среди тьмы
Обеспокоенно шумит,
Цепями тяжкими гремит.
Над миром утвердивший власть,
На сером ездящий коне,
Сидит, с охоты возвратясь,
Кара-Кула в своей стране.
Но темно-серый тощ, понур,
Запали мокрые бока.
Кара-Кула устал и хмур,
Совсем похож на старика.
И говорит супруге он:
«Я, неслабевший,— ослабел.
Неутомимый — утомлен,
Я, неболевший,— заболел.
Напасть какая, не пойму,
Свалила моего коня.
И что, неведомо уму,
Ломает тело у меня?..»
Его жена Кара-Таади,
Рожденная в подземной тьме,
Душа зловещая в груди,
Одно коварство на уме,
Достала лунную сутру,
Проворно принялась листать,
Открыла толстую сутру,
Поспешно принялась читать.
Узнала: жизнь Кара-Кула
К концу заметно подошла.
Но не сказала ничего,
Все утаила от него.
Надеждой тешилась своей:
«В подземный мир не опущусь,
Мне станет мужем Когюдей,
К отцу теперь не возвращусь...»
Алып к земле припал и встал,
В Тастаракая превращен.
Конь белогривый наземь пал,
И стал торбоком синим он.
И, спотыкаючись, побрел
С крутой горы в железный край.
И песню звонкую завел,
Запел бедняк Тастаракай.
Так он к аилу у реки
Спускался с песнею пока,
Обрадовались старики:
Узнали издали сынка.
Кара-Кула, каан больной,
От развеселой песни той
Взбешен, ругает без конца
Неугомонного певца:
«Жирнее нету молока,
Чем у собаки, говорят.
Хитрее, чем у бедняка,
Ума не сыщешь, говорят!
Тревожащий в болезни нас,
Орущий песни глупый Тас (42),
Дурнее сотни дураков,
Откуда он и кто таков?
Когда болею, силы нет —
Порядочные люди след
Ко мне забыли насовсем,
А этот горлодер зачем
Теперь идет в мою страну?
Ему я голову сверну!»
Ругаясь так, сказал жене:
«Ээй, не вызвать ли ко мне,
Живущего в твоей стране
Шамана с именем Тордоор?
Его всепроникающ взор.
Пусть покамлает у огня,
Глядишь, найдет причину мук,
Болезнь прогонит от меня,
Излечит тяжкий мой недуг...»
Бедняк на тощем скакуне,
Бедняк в заплатанном рванье
Подъехал, двери растворил,
Вошел в родительский аил,
Вокруг с улыбкой поглядел,
Прижал к груди отца и мать,
Прошел, в углу переднем сел,
Скрестивши ноги, отдыхать.
Отец испуган, изумлен,
Скрывая слезы, думал он:
«Опять вернулся ты, сынок...
Зачем, какая из дорог
Тебя обратно привела
В становище Кара-Кула?
Отрада старости моей,
Опора слабнущих костей,
Сынок единый, Когюдей,
Повалит с ног тебя злодей —
Кезер Кара-Кула каан,
Кровавоглазый великан...»
Взялась, скрывая слезы, мать
Сынка-алыпа угощать.
Конина свежая горой
В тепши дымится перед ним,
Суп жирный в чашке золотой
Исходит паром золотым.
Глазами, полными тоски,
Глядят на сына старики
И думают: «В последний раз
Сынок обедает у нас...»
Каан Кара-Кула с утра
Богатыря Кускун-Кара
На чернокрылом скакуне
Послал, сказав, чтобы в стране,
Где вечно властвует Эрлик,
Он отыскал в единый миг,
Поворошив утробы гор,
Шамана с именем Тордоор.
Когда вечерний пал туман,
Сквозь землю видящий шаман
Явился, бубен за спиной
Висел большой берестяной.
Дверь заперев, бревном припер,
Закрыл широкий дымоход,
Затем великий кам (43)
Тордоор
Кружиться начал над огнем,
Одежды шелестят на нем,
А бубен бухает, как гром,
Вот, вспененный, раскрывши рот,
На помощь духов он зовет...
Тастаракай к земле припал,
И серой мышкой в тот же миг
В аил каана прибежал,
Сквозь щелку малую проник.
Он слышит, сидя в уголке,
Как на собачьем языке,
Как на коровьем языке
Тордоор и лает и ревет —
Беседу с духами ведет.
Но вот остановился он,
В поту, камланьем43 утомлен,
Так черный говорит шаман:
«Ээй, ээй, скажи, каан,
Когда ты разорял Алтай —
Маадай-Кара богатый край,
Осталось что-то или нет?»
Кара-Кула сказал в ответ:
«Там не осталось даже пня
Торчащего после меня.
Травинки малой ни одной
Я не оставил над землей.
Остались голые поля,
Пустая черная земля».
Вновь покамлал Тордоор шаман,
Сильней, чем прежде, утомлен:
«Стой-погоди, скажи, каан,—
Вторично спрашивает он,—
Кобылки серой быстрый след
Сумел прервать ты или нет?
Ты вкруг Алтая гнал ее,
Ты злобно проклинал ее,
Но скрылась в зарослях она,
Землей родною спасена.
Ты волчьей стае наказал
Кобылку эту разорвать,
Вороньей стае приказал
Глаза негодной проклевать.
Они пришли к тебе иль нет
Сказать, что кобылицы след
Навеки ими прерван был?»
«Нет, нет»,— каан проговорил.
И в третий раз шаман Тордоор
Мычал, кружился, лаял, выл,
Усталость замутила взор,
Он сел и так проговорил:
«На стойбище Маадай-Кара
Встал на крыло птенец орла.
Отцом была ему гора,
Береза матерью была.
Не сгинул не попавший в плен,
Упрятанный меж горных глыб,
Великий Когюдей-Мерген,
Могучий молодой алып.
За мать свою и за отца
Приехал мстить вам до конца.
Когда ты на охоте был,
Твою страну он посетил
И съел верблюда вожака,
Четырехлетнего самца,
Он съел подменного быка,
Сидел в аиле у отца.
У желтых лам он побывал
И о душе твоей узнал.
Его кровавая стрела
Сквозь брюхо круглое прошла
Небесной маралухи той,
В которой ящик золотой
Был возле печени укрыт.
Теперь алыпом он разбит.
Он двух перепелят поймал
И в кулаке могучем сжал.
Каан, отсюда твой недуг,
Исток болезни, корень мук.
Наверно, ты, Кара-Кула,
Наполнил с краем чашу зла.
Верни алыпу белый скот,
Освободи его народ,
Отдай ему отца и мать,
И помоги откочевать.
Потом, каан, найдем пути,
Чтоб Когюдея извести...»
Так говоря, Тордоор шаман
Все перечислил-рассказал.
И громко зарыдал каан,
Заголосил, запричитал.
Слеза каана, как стрела,
Сквозь землю черную прошла.
Каана злого горький крик
До глубины небес достиг.
А Когюдей — преображен,
Теперь в обличье новом он,
Где мышь была — вскочил медведь
И начал яростно реветь:
«Тордоор всезнающий, постой!
Сейчас тебя я вразумлю!
Тебя прибью, а бубен твой
На тридцать щепок разломлю!»
Так лапой двинул великан,
Что не успел вскочить шаман,
И очутился вмиг Тордоор
В глубоких внутренностях гор.
Вослед коварному ему
В подземную глухую тьму
Медведь швырнул огромный кол,
Шаманский бубен расколол.
Тордоору череп разломал.
Кол в море желтое упал,
Воткнулся в пуповину дна —
Взбурлила желтая волна,
Вскипела мутная вода
И испарилась без следа.
Торбок встряхнулся в этот миг
И темно-сивым стал конем,
Медведь встряхнулся, и возник
Алып в обличий своем.
Округлолунное его
Лицо в сиянье золотом,
Лик яркосолнечный его
Сверкает чистым серебром.
Чело его снегов светлей,
Нос, как горы хребет, прямой,
Два полукружия бровей
Сравнимы с бархатною тьмой.
Стан несгибаем у него,
Могучим создан Когюдей.
Сильней алыпа — никого
Под солнцем нету из людей.
Суставы каменно крепки,
Даны с рождения ему.
Не разогнуть его руки
В подлунном мире никому.
На пояснице, что крепка
И необъятно широка,—
Смогли бы, только доведись,
Полсотни табунов пастись.
Грудь, точно поле, широка.
Как мощный кедр — его рука.
Весь чистым золотом покрыт.
Блеск пуговиц глаза слепит.
Алыпа взгляд и грозный вид
Сто тысяч в бегство обратит.
Огнь богатырского лица!
Слов богатырских чистый гром!
Земля проваливается
Под богатырским сапогом!
Кара-Кула каан назад
Озлобленный свой бросил взгляд,
Кровавоглазый увидал :
У коновязи конь стоял,—
Стена зубов его — бела,
Литая грудь его — крута,
Блистает, огненно-светла,
Спина — от холки до хвоста.
А грива пышная, густа,
Как золотой поток, висит,
Сто прядей темного хвоста
Касаются его копыт.
Над легкой головой своей
Синь-облака средь бела дня
Стрижет он парою ушей,
Уздой наборною звеня.
Седло, нагрудник и узда
Прослужат долгие года.
Потник на нем белей, чем луг,
Который снегом занесло,
И держат шестьдесят подпруг
Златое крепкое седло.
Алып могучий Когюдей,
Защитник родины своей,
Глазами источая свет,
Сказал: «Привет, каан, привет!
Теперь тебя озолочу,
Ты столько лет кормил мой скот.
Тебе сполна я заплачу,
Берег ты долго мой народ.
Еще за мать и за отца
Вознагражу я храбреца.
Эй, выходи, злодей, на бой,
Хочу сразиться я с тобой!»
Взревел, как зверь, Кара-Кула,
Как будто острая стрела
В него попала. Вздрогнул он,
Огнем как будто опален.
Сказал: «Не больно ли ты смел?» —
И шубу толстую надел.
Сказал: «Нахален ты, сынок,
Отсюда не утащишь ног!»
Схватил огромный черный лук,
Сказал: «Моя страна вокруг!
Я море крови выпивал,
Твоей — не хватит на глоток.
Людишек толпами глотал,
Тебя — не хватит на зубок.
Побольше мяса нагуляй,
Тогда, негодник, приезжай».
Бранился долго так злодей.
Ему ответил Когюдей:
«Стреляя быстро, говорят,
Не станешь метким никогда.
Болтая много, говорят,
Не станешь умным, вот беда.
Проголодался? Хочешь есть?
Что ж, у меня в кармане есть
Немного сладкого мясца
Для храбреца и удальца —
Перепелиных два птенца».
И Когюдей птенцов достал
Вмиг из кармана своего
И на две части разорвал
Перепеленка одного,
Тут темно-серый конь упал,
Издох клыкастый, где стоял.
«Каан! Твой конь издох, ну что ж,
Я посмотрю, как ты помрешь!»
Бороться начали они
Под черным тополем в тени.
Сошлись они, как свет и тень,
Столкнулись, точно ночь и день,
Как горы, встали на дыбы
В порыве яростной борьбы.
Гремят железные поля,
Гудит железная земля,
Под ними рушатся леса,
Трещат над ними небеса.
Как два взъяренные быка,
Как грозовые облака,
Упорно борются семь дней
Кара-Кула и Когюдей,
Но пересилить-победить
Не удается никому —
И ночи солнца не затмить,
И свету не рассеять тьму.
Кара-Кула — отродье зла,
Чья совесть черною была,
Чугунною, во сто пудов,
Дубиною ударил он,
Железным, в семьдесят пудов,
Тут молотом ударил он.
И молот и дубина вмиг
Переломились пополам,
Но Когюдей-Мерген не сник,
Врага схватил покрепче сам,
Затем от почвы оторвал
И над собой его поднял.
Пытался завладеть своей
Душою черною злодей,
Но разорвал, хватая, сам
Перепеленка пополам.
И тут врага земли своей
Ударил оземь Когюдей.
Свет воссиял, пропала мгла,
Кара-Кула — отродье зла —
«О, горе! Горе!» —заревел,
Рев до Ульгеня (44)
долетел.
Вскричал: «Мой бог!» Услышал крик,
Но не явился злой Эрлик.
От крика горы сотряслись,
Земли поверхность поднялась,
От рева поднебесья высь,
Расплескиваясь, сотряслась.
Народ подземный удручен,
От страха мечется во мгле.
Народ надзвездный удивлен —
Воитель славный на земле.
Родной земли простой народ —
Убогий, сирый, говорит:
«Мы вновь свободу обрели!
Кара-Кула каан убит!..»
Могучий Когюдей-Мерген
Выводит из железных стен,
Где жили, бедствуя, рабы,
Свой настрадавшийся народ,
Из-за железной городьбы
Он выпускает белый скот.
Батыров семьдесят к нему
Сошлись со всех концов земли (45).
Кезеров шестьдесят сквозь тьму
К алыпу славному пришли.
Такую старший речь ведет:
«Погиб злодей, остался скот.
Скажи нам, славный муж, куда
Девать огромные стада,
Как уголь, черного скота?
Земля им эта занята».
Так Когюдей-Мерген сказал,
Алып могучий отвечал:
«Плохой земли не может быть,
Плохим бывает человек.
Вы можете спокойно жить
У этих гор, у этих рек.
Коль зло пропало навсегда,
В реках очистится вода.
И в благодарность за труды
Земля дарует вам плоды.
Здесь будет пышный травостой —
Пасите свой, кааны, скот.
В достатке будет сухостой —
Селите, воины, народ.
Неисчислимые стада,
Как уголь, черного скота
Гоните вы отсюда прочь,
А вместе с ним — Эрлика дочь.
К отцу отправьте навсегда,
Когда погоните стада.
Такая подлая жена
Мужам Алтая не нужна.
Пусть отправляется во тьму».—
Сказал алып. И тут к нему,
Смеясь, жена Кара-Кула,
Раскачиваясь, подошла,
Запела, на ходу скрипят
Берестяные сапоги,
Как котелки, в ушах висят
Две медные ее серьги.
Кара-Таади произнесла:
«Ты победил Кара-Кула,
Как быть теперь? Что делать мне,
Его беспомощной жене?
Из мира, где не льется свет,
Пришла, живу я под луной.
Из-под земли, где солнца нет,
Я поднялась, как жить одной?
Привыкла к солнцу и луне,
В подземный мир не опущусь.
Привыкла к этой стороне,
К отцу теперь не возвращусь.
Я твой не убивала скот,
Я твой не мучила народ.
Все знают, стариков твоих,
Твоих родителей седых,
Рабами сделала не я.
Чиста, как снег, душа моя.
Я не творила людям зла,
Его творил Кара-Кула.
И все преступные дела
На совести Кара-Кула.
Хочу остаться я с тобой,
Хочу я жить среди людей,
Хочу я стать твоей женой,
Алып могучий Когюдей!»
Алып сурово ей сказал,
Колдунье черной приказал:
«От этих гор, от этих вод,
Как уголь черный, свой народ,
И черные свои стада
Гони немедленно туда,
Где их поганые поля,
Где их нечистая земля.
Ты — злее мужа своего,
Твоя душа черна, как ночь,
Подлее мужа своего,
Навеки убирайся прочь
В свою подземную страну!
Иначе голову сверну».
Необижавшаяся дочь
Эрлика — так оскорблена,
Неоскорблявшаяся дочь —
Так разобижена она,
Что в возмущенье говорит,
От злости, как змея, шипит:
«Не хочешь видеть ты меня?
Посмел обидеть ты меня?
Что ж, на любом пути твоем
Пихтовым лягу я бревном,
Густым валежником паду.
Я все равно тебя найду.
Не хочешь, будучи живым,
Под солнцем вместе жить со мной,
Я буду с духом жить твоим
Под семислойною землей.
Я все равно тебя найду
И в мир безлунный уведу.
Тогда посмотрим, кто умней.
Твой конь бессмертен или нет?
Тогда посмотрим, кто сильней.
Ты сам бессмертен или нет?»
И, превратив свой скот в песок,
Она сгребла его в мешок.
И, превративши в горсть углей,
В карман упрятала людей.
Так в путь-дорогу собралась
И на прощанье поклялась:
«Знай, не пройдет и семи дней,
Как будешь ты в стране моей,
Примчишься сам и сдашься в плен,
Могучий Когюдей-Мерген!»
Сказавши так, как ночь черна,
Под землю прыгнула она,
И долгий шум и тяжкий гул
В глуби подземной утонул.
Тут славный воин Когюдей
Сказал отцу Маадай-Кара:
«В пределы родины своей
Нам кочевать пришла пора.
В сереброкаменный Алтай,
Где травы летние густы,
В благословенный мирный край,
Где горы вечно золоты.
Теперь — синей и чище бег
Родных семидесяти рек.
Обильней прежнего — трава,
Яснее — неба синева.
Туда гоните белый скот,
Где самый пышный травостой.
И расселяйте там народ,
Где есть в достатке сухостой,—
Так говорил могучий сын,—
Кочуйте в мирные края.
Вперед отправлюсь я один,
Родной земли достигну я,
Построив юрту, буду ждать
У очага тебя и мать».
Сел на коня алып верхом,
И золотую шапку снял,
И оглянулся он кругом,
Народу весело сказал:
«Неволи кончились года,
Кочуйте, вольные, туда,
Откуда вас пригнал каан,
В страну — прекраснее всех стран,
В страну, которая одна,
Поскольку родина она».
Богатой шапкой помахал,
В края Алтая поскакал.
Как вновь родившийся народ —
Освободившийся народ,
Похоже, в темных небесах
Луна взошла — возликовал,
Или в бессолнечных краях
Явилось солнце — весел стал.
И сами двинулись стада
К обильным пастбищам родным,
Отары потекли туда,
И табуны, как белый дым.
И люди двинулись туда,
Где ждал их долгие года
Благословенный отчий край —
Сереброкаменный Алтай.
Песнь третья
Алыпа темно-сивый конь,
Прекрасный белогривый конь,
Ударил парою копыт —
Над черною страной летит,
Касаясь гривою небес,
Хвостом сметая дикий лес.
Передней парой стройных ног
Играет темно-сивый конь.
Танцует задней парой ног
Неутомимый верный конь.
Не приминая мягких трав,
Красивой иноходью мчит,
Высоких не касаясь трав,
Подобно ветру он летит.
Передней вымахнет ногой —
И четырехнедельный путь
У Когюдея за спиной.
Ударит заднею ногой —
Окажется годичный путь
За богатырскою спиной.
Он двадцать голубых озер,
И сорок недоступных гор,
И пятьдесят крутых стремнин,
И шестьдесят больших долин
Перескочил и тихо встал;
Неутомлявшийся — устал,
Неустававший — изнемог.
Ни задних, ни передних ног
Не может над травой поднять,
Копыт от почвы оторвать.
Конь похудел. Сквозь шкуру так
Торчащий выступил костяк —
Ведро повесь на конский бок,
Берестяной повесь кёнёк (46),
Не сваливаясь, увисят.
Конь изнемог. Печален взгляд.
Глаза, как будто бы на дно,
Ушли во глубину глазниц.
И доведись, немудрено
В них свить гнездо любой из птиц.
Когда внезапно изнемог
Конь обессиленный и встал,
Сдержаться Когюдей не смог,
Ругаясь, гневно закричал:
«Ты что же по лопаткам гор
Не бьешь копытами, не мчишь?
Ты что ж на плечи низких гор
Не наступаешь, не летишь?
Кара-Кула каан убит,
А ты здоров, силен и сыт,
Чего же, как торбок хромой,
Ты не торопишься домой?»
Алып витую плетку взял
За золотую рукоять,
И, как ни разу не хлестал,
Стал темно-сивого хлестать.
Хлестнул по сникшей голове,
Хотел хлестнуть еще сильней,
Но тут пасущийся в траве
Увидел он табун коней.
Они, каурые,— быстры,
Как ветер, дикие бегут
То вверх по склону, то с горы,
Ушами облака стригут,
Легко копытами звеня.
«Чем бить негодного коня,—
Подумал славный Когюдей,—
Не лучше ль будет поскорей
Его на нового сменять
И дальше с песнею скакать?»
На землю спрыгнул Когюдей,
Аркан — любой реки длинней,
Осенней полночи темней,—
В средину табуна метнул,
И лучшему из табуна
Мгновенно шею захлестнул,
И с ног рывком свалил коня.
Каурый извивался конь,
Злой, дикий не давался конь,
Но Когюдей его сдержал,
Встать не давая, обуздал
Коня серебряной уздой,
Потник широкий белый свой
Успел на спину положить,
Седлом двулуким заседлать.
Пустился конь копытом бить,
Метаться, спину выгибать,
Изрыл долину всю вокруг,
Крутился бешено и ржал,
Но, затянув все сто подпруг,
Алып негодника сдержал.
Так заседлал он за полдня
С трудом каурого коня.
Стоит каурый молодой,
Сверкая сбруей золотой.
«Вот это конь!» —алып сказал,
Все подтянул и подвязал,
А исхудалого коня,
Совсем усталого коня,
Ударил плетью по спине,
Тот отбежал и в стороне
Остался след, где он стоял,
Куда умчался — след пропал.
Тут спохватился Когюдей,
Жалея старого коня,
Подумал: «Верностью своей
Не раз он выручал меня.
Не знаю, что это со мной,
Не знаю, что тому виной —
Ударил старого коня,
Прочь от себя его гоня...»
Так долго огорчался он,
Так горько сокрушался он.
Едва в седло златое сел,
Чуть только повод натянул,
Стрелой каурый полетел,
Конь с места бешено рванул.
И распласталась синь озер,
Остановила бег река,
И замелькали стены гор
Перед глазами седока.
Алтая почва сотряслась,
Раскалываясь, поднялась.
И среди рокота вершин,
И среди грохота глубин,
И среди рушащихся глыб
В слепом беспамятстве алып
В провал разъявшийся летит,
Где тьма зловещая гудит.
Опомнился он в первый раз —
Вокруг затмился белый свет,
Лик солнца ясного погас,
Луны во тьме небесной нет.
Когда опять в себя пришел,
Оглядываясь, не нашел
Земли Алтая и небес —
Мир человеческий исчез.
И в третий раз очнулся он —
Лежит измучен, недвижим,
К дверям Эрлика привезен.
Потник разодранный под ним,
Седло лежит под головой.
Он сам в одежде боевой,
С оружьем мощным, на спине—
Израненный, полуживой —
Один в подземной стороне.
Был силой зла лишен ума
Все это время, понял он.
Свет солнца поглотила тьма,
Могучий воин побежден.
Сам в подземельный вечный плен
Попался Когюдей-Мерген,
Он это понял лишь теперь...
Открылась Эрлик-бия дверь.
С глумливым смехом из дверей,
С визгливой песнею своей,
В шаманских лентах на груди
Эрлика дочь — Кара-Таади —
Любимое исчадье зла,
Оттуда вышла-подошла.
«Зачем стрелою прилетел,
Куда и ехать не хотел?
Быть может, воину нужна
Теперь хорошая жена?
Туда, где клялся не бывать,
Зачем явиться поспешил?
Быть может, ты облюбовать
Себе невесту здесь решил?
Зачем не на своем коне
Приехал в гости ты ко мне?
Где конь теперь? Глаза протри,
На чем приехал — посмотри!»
Взглянул несчастный — не коней
Табун, копытами стуча,
В долине пасся — по-над ней
Летала тучей саранча.
Тьма ядовитых желтых змей,
Лягушек ядовитых тьма
Свивалась-прыгала по ней,
Но, силой зла лишен ума,
Неверным взором Когюдей
Увидел табуны коней,
Увидел тучные стада.
Не конь каурый — желтый змей
Доставил воина сюда.
И, в мир подземный занесен,
Теперь остался пешим он.
«Под солнце ясное, туда,
Поверь, мой милый, никогда
Вернуть тебя не захочу,
А захочу — так не смогу,
Ведь тело я твое сожгу,
И стану жить с твоей душой,
И ты навеки будешь мой!»
Не выпускающих из рук
Железный меч и черный лук,
Двух сторожей-богатырей
Колдунья ставит у дверей,
Чтоб Когюдея охранять,
Всех от алыпа отгонять.
Вечноживущие в ночи,
Глядят, любуясь, силачи,
Алыпа дивной красотой,
И говорят между собой:
«Алтаем солнечным рожден—
О, как красив, несчастный, он!
Алтаем лунным создан он,
О, как, несчастный, молод он!»
Пока толкуют так о нем,
Так удивляются вдвоем,
Донесся свист, и свет мелькнул,
И легкий ветерок подул:
Над бездной — сер, четырехкрыл,
Снижаясь, беркут закружил.
Вдруг камнем он упал, и вмиг —
Узду, оружие, потник,
Седло, алыпа самого
Схватил и взмыл, и нет его.
Два стража так изумлены,
Два силача поражены,
Вскочили и, разинув рты,
Не сводят взгляда с высоты.
И тут, зубами скрежеща,
Бежит колдунья из дверей,
Спешит, разгневанно крича,
Добычи не найдя своей:
«Эрлика лучшие стрелки,
Чего торчите, как пеньки?
Как проворонить вы смогли,
Кезеры, беркута того?
Со дна небес на дно земли
Скорей верните мне его!»
И старший сторож лук согнул,
Стрелу крылатую метнул,
Но смерть несущая стрела
У шеи беркута прошла.
И младший сторож лук согнул,
Стрелу свистящую метнул,
Но ядовитая стрела,
Хвост беркута задев, прошла.
Колдунья черная взялась
От злости причитать и выть
И черным словом поклялась
За всё алыпу отомстить...
Четырехкрылый беркут вмиг
В краях Алтая отыскал
Живой целительный родник,
Аржан, текущий из-под скал.
Вода чистейшая текла
В долине у подножья гор,
Живая собрана была
В сосуды девяти озер:
В трех — словно молоко тепла,
В трех — от поверхности до дна,
Как лед, стояла холодна,
В трех — от поверхности до дна
Была кипящею она.
Алыпа в воды всех озер
Могучий беркут окунул,
И засветился жизнью взор,
И облегченно он вздохнул.
Все кости вправились, срослись,
Аржан все раны исцелил...
Алыпа беркут поднял ввысь,
На поле чистом опустил.
И вот над головой своей,
Очнувшись, видит Когюдей
В сиянье радостного дня
Родного верного коня.
Конь белогривый, это он
Был в беркута преображен,
Из-под земли алыпа спас
И излечил его сейчас.
Сказал тут белогривый конь,
Промолвил темно-сивый конь:
«Ругал уставшего меня,
Прогнал, тяжелой плетью бил,
Сменял на нового коня,
А я тебя не позабыл.
Когда 1} не я, хозяин мой,
Ты стал бы пеплом и золой».
«Злодейкой околдован был,
Плохое дело совершил,
Меня, коль можешь, не вини,
Обиды в сердце не храни,
Кара-Таади я не прощу,
С лихвою подлой отомщу»,—
Так, силы злобные кляня,
Воитель уверял коня.
Закончив речь, он стал опять
Коня-спасителя седлать.
Он на потник, белей, чем луг,
Который снегом занесло,
Затягивая сто подпруг,
Кладет двулукое седло.
И конь его готов опять
В края алтайские скакать.
Танцует темно-сивый конь,
Прекрасный белогривый конь.
Не приминая мягких трав,
Красивой иноходью мчит,
Высоких не ломая трав,
Стрелою легкою летит.
Он перемахивает, скор,
Макушки поднебесных гор,
Лопатки высоченных гор
И плечи невысоких гор.
Распластываясь, конь бежит,
Степь буйнотравная дрожит.
Вытягиваясь, конь летит —
Даль каменистая гудит.
Хребты восьмидесяти гор
И русла девяноста рек
Перелетев во весь опор,
Конь задержал могучий бег.
Под ним — гора, а под горой
Раскинулся Алтай родной.
В пределы родины своей
Глядит воитель Когюдей:
Прекрасна мирная земля!
В цветах луга, пышны поля,
Круты речные берега,
Вечнозеленая тайга,
Цвет не меняющая свой
Ни красным летом, ни зимой,
Стоит высокою стеной.
Не выгорающие в зной,
Пестреют россыпи камней,
Как звездных россыпи огней.
Кукушка весело поет,
Не прерываясь, счет ведет
Спокойным, радостным годам,
Густым бесчисленным стадам.
И отражает облака
Родная синяя река,
И возвышаются над ней
Семь гор — высоких крепостей.
Живой целительный Алтай,
Оказывается (47),
так лежал.
Благословенный отчий край
В благополучье пребывал.
Вдвойне умножился числом
Богатый разномастный скот.
В краю живительном родном
Стал многочисленней народ.
Родная мать, отец родной —
Здоровы, веселы, бодры,
Великий собирают той,
Гостеприимны и добры.
И в честь свободы дорогой
Весельем оглашают мир,—
Восьмидесятилетний той,
Семидесятилетний пир.
Конины жирные куски
Лежат огромною горой,
Обилье крепкой араки
Сравнимо с летнею рекой.
Псы голодавшие сыты,
Подняли круглые хвосты.
Освободившийся народ
Теперь, блаженствуя, поет.
Чтоб малым детушкам играть,
Шелка расстелены — играй.
Чтоб милым девушкам ступать,
Шелка натянуты — ступай.
Теперь в долине Ойгылык
Веселье молодых парней.
Теперь в долине Кыйгылык
От песен радостных светлей.
От встречи с родиной своей
Безмерно счастлив Когюдей.
Легко дыхание коня,
Алыпа лик — светлее дня.
Навстречу воину идет,
Его приветствуя, народ.
Коня прекрасного его
Алыпов шестьдесят ведут
До коновязи золотой,
А Когюдея самого
Батыров семьдесят ведут,
Взяв под руки, в аил родной.
Вскормивший воина отец,
Ласкавшая героя мать,
Дождавшись сына, наконец,
Идут его поцеловать.
Маадай-Кара с Алтын-Таргой
На белом, точно снег, ковре,
Их Когюдей-Мерген родной —
На синем, как тайга, ковре.
Кумыс он пьет и мясо ест.
Но из каких явился мест,
Как в подземельный мир попал,—
Алып ни слова не сказал.
И восемь дней и девять дней
Течет рекой веселый той.
Сидит задумчив Когюдей.
«Скажи нам: думою какой
Теперь твой занят светлый ум
И отчего сидишь угрюм?» —
Седой отец его спросил,
Маадай-Кара проговорил:
«Должна ли шуба на плечах
У парня износиться в прах?
С рождения до смерти есть
У всех зверей на свете — шерсть,
Вот так же каждый из мужчин
По жизни не идет один.
Мне не годится холостым
Ходить под солнцем золотым.
Скажи, отец, в какой стране
Есть предназначенная мне
Девица? Где ее искать?
В какие земли мне скакать?»
Вскормивший воина отец,
Подумав, молвил, наконец,
Сказал, затылок почесав:
«Аай, аай, сынок, ты прав.
Жить одиноким — толку нет,
Но тут не просто дать совет...
Из ближних если укажу —
Боюсь, тебе не угожу.
А укажу из дальних мест
Какую-нибудь из невест —
Тогда дорога будет к ней
Стократ опасней и длинней.
Подруга из недальних мест
Тебе придется по нутру,
То выбери из всех невест —
Сабаров младшую сестру.
Захочешь взять из дальних мест
Прекраснейшую из невест,
Знай, что в одной из славных стран
В недосягаемой дали,
Живет великий Ай-каан
На грани неба и земли,
Где день сливаются и ночь,
Есть у него такая дочь,
По имени Алтын-Кюскю,
Что непосильно языку
О красоте ее сказать,
Ее словами описать:
Так ослепительно она
Красива, будто с малых лет
Ей матерью была луна,
Отцом — весенний солнца свет.
Дорога в те края трудна,
И вновь потребует она —
И сотни гор перемахнуть,
И рек десятки перейти,
Семидесятилетний путь —
И семь препятствий на пути...»
Услышав это, Когюдей
Не мог на месте усидеть,
Сказал он: «Каждый из людей
Когда-то должен умереть,
И конь любой — не золотой,
Настанет срок — придется пасть.
Вот почему в пределы той
Страны хочу теперь попасть.
Пусть лучше скажут «ездил он»,
Чем «не решился съездить к ней»,
Пусть лучше скажут «сгинул он»,
Чем скажут «струсил Когюдей».
Нетерпеливее огня,
Которому дано пылать,
Вскочил алып, позвал коня,
Поставил боком, стал седлать,
Потник широкий, точно луг,
Кладет на спину, а потом
Затягивает сто подпруг
Под злато-бронзовым седлом.
Протягивает под хвостом
Подхвостник, свитый из ремней,
Нагрудник с кольцами потом
Обводит, крепит Когюдей.
И, наконец, надев узду,
Отводит в сторону коня.
«Страну далекую найду
И девушку, светлее дня,
Посватать попытаюсь там»,—
Подумал так и начал сам
Тут облачаться Когюдей.
Он прикрепил к спине своей
Безлунно-черное копье —
Заточенное острие,
Взял меч, колчан кровавых стрел,
И на коня воитель сел...
Проделывая за полдня
Годичный путь, алып скакал.
У перепутья слез с коня,
И, слушая, к земле припал.
Услышал, как растет трава,
Как удлиняется листва,
Поскрипывают корешки,
Посвистывают ветерки,
Все звуки ближних, дальних стран...
К Алтын-Кюскю спешит, незван,
Алып-обжора черный мчит
Эрлика сын — Кувакайчи,
И с ним Кара-Таади — сестра.
Повозки — за горой гора —
Скрипят от разного добра —
Мехов и злата-серебра.
Полны с краями бурдюки,
Как деготь, черной араки.
Чтобы задобрить старика,
Прольется пьяная река.
Чтоб, околдован, захмелел
Отец и тут же повелел —
Быть дочери своей родной
Обжоре черному — женой.
Прислушался — услышал он:
К Алтын-Кюскю со всех сторон
Батыры многие спешат,
Копыта конские стучат,
Все к стойбищу ее летят,
Все к ней посвататься хотят.
Услышав это, Когюдей
Подумал: «Поперек пути
К прекрасной девушке моей
Опять стоит Кара-Таади,
Любимая Эрлика дочь —
Колдунья черная, как ночь».
Подумав так, воитель встал...
Как будто шесть могучих скал,
Пред ним возникли шесть парней,
Шесть одинаковых мужей,
Шесть молодых богатырей,
Обличьем каждый — Когюдей.
С алыпом схожи удальцы,
Как будто братья-близнецы.
И тут же кони их стоят,
Шесть аргамаков встали в ряд,
Все темно-сивые они,
Все белогривые они.
Воитель славный удивлен,
Алып могучий изумлен,
Батыров спрашивает он:
«Вы кто такие? Не пойму:
Со мною схожи почему?
Зачем и из какой земли
Сюда пути вас привели?»
Такою речь мужей была:
«Ты победил Кара-Кула,
Избавил родину от зла,
Народам волю возвратил,
И Дух Алтая снарядил
Нас и направил за тобой
Идти дорогою любой
И всюду помогать тебе,
Твоей содействовать борьбе».
Могучие алыпы в ряд
В сиянье золота стоят,
Поводья тронули и вот
Лавиной двинулись вперед.
Семь одинаковых мужей,
Семь молодых богатырей
Полет коней прервали вмиг
На гребне голубой горы,
Скрывающей и солнца лик
И лунно-звездные миры.
Вся до подножия гора
Блестит — в камнях из серебра,
А за горою той видна
Великолепная страна,
Которой правит Ай-каан —
Красивей не бывает стран:
Здесь пестрый, точно галька, скот —
Бесчислен, как песок речной.
Здесь весел, светлолик народ,
Убогой юрты — ни одной.
Не иссякает никогда
В реке целебная вода.
Вечнозеленая земля,
И все деревья — тополя.
Одна гора из серебра,
Владеет ею Ай-каан.
За ней из золота гора,
Там Ай-каана мирный стан.
И на земле прекрасной той,
Весельем оглашая мир,
Шумит тридцатилетний пир,
Семидесятилетний той.
Поют красиво старики,
Народ играет молодой,
Конины жирные куски
Лежат огромною горой,
И море пенной араки
Кипит в посуде золотой.
Красиво пляшут все вокруг,
Веселья полон летний луг.
Где малым детушкам играть,
Лежат красивые шелка.
Где милым девушкам ступать —
Кошма узорна и тонка.
И на пути алыпов в ряд
Сиденья золотом горят.
И на пути кезеров в ряд
Столы богатые стоят.
Славнейшие из всех коней
Готовы силы испытать.
Сильнейшие из всех мужей
Себя готовы показать.
И шестьдесят алыпов тут
Начала состязанья ждут,
И семьдесят батыров тут,
Не победивши, не уйдут.
На светло-рыжем скакуне
В подземной ездящей стране,
Кувакайчи-обжора здесь.
Коварство, ненависть и месть
Тая змеею на груди,
С ним прибыла Кара-Таади.
Она пронюхала опять,
Что стало семь богатырей,
Однако не смогла узнать,
Из них который — Когюдей.
Собравши черных слуг своих,
Колдунья наставляет их:
«Маадай-Кара негодный сын,
В путь отправляясь, был один.
Теперь я вижу семерых,
Остаться не должно в живых
Из Когюдеев никого,
Убейте всех до одного!»
Алмысы в каменный аил,
Где Ай-каан великий жил,
Тайком проникли, скрыты тьмой,
Под белой вышитой кошмой
Там яму выкопали вмиг
И навтыкали черных пик.
Колдунья ниточку взяла,
Что тоньше волоса была,
И под покровом черной тьмы
Край белой вышитой кошмы
Связала с бронзовым котлом,
Подвешенным над очагом.
Она с алмысами потом
Железный выстроила дом,
На нем повесив сто замков
И сто запоров и крючков.
Внутри наладила она
Одну постель из чугуна,
Грядой поставила на ней
Подушки из больших камней.
В табак зелено-золотой,
В тажуур с отменной аракой
Отраву вылила свою,
Чтобы не гибнущих в бою
Могучих воинов убить,
Всех Когюдеев отравить.
Но семь богатырей лихих,
Семь Когюдеев молодых,
Легко разведали они
Про все, что тайно в эти дни
Готовила Эрлика дочь,
Чтоб брату младшему помочь.
Богатыри, как свет быстры,
По склону голубой горы
Спустились так, что не смогла,
Летя, догнать бы их стрела.
Дыхание семи коней
Тумана белого плотней —
Заполнило и дол и лес.
Обличия богатырей —
Пожара ярого красней,
Затмили глубину небес.
Семь одинаковых коней
Неутомимы и верны,
Семь одинаковых мужей
Неустрашимы и сильны.
Внезапно, как лавина с гор,
Богатыри во весь опор
Влетели в шумный мирный стан,
Где восседает Ай-каан.
Блестели копий острия —
Острее елей вековых,
Сверкали сабель острия —
Вершин светлее снеговых.
Любым из тех богатырей
Уж если пущена стрела,
То не отскочит от камней,
А речь такою их была:
«Уж если сказаны слова,
От бия не вернутся ввек,
И перескажет их молва,
Запомнит каждый человек».
Когда клыкастых семь коней,
Танцуя, ближе подошли,
То семерых богатырей
Кааны рассмотреть смогли.
Все шестьдесят удивлены,
Все семьдесят поражены:
«Таких похожих, как у них,
Нигде не видели коней.
И одинаковых таких
Не видели богатырей.
Откуда, из какой земли
Сюда пути их пролегли?»
Из молодых богатырей
Который — старший Когюдей,
Узнать шулмусы не смогли.
Шулмусов оторопь взяла.
Кара-Таади — отродье зла —
Тотчас обличье приняла
Старухи дряхлой Дьебелек (48),
Чьи волосы, как грязный снег,
Чьи серьги — медные котлы,
Чьи зубы — острие иглы,
К чьему лицу огромный нос,
Подобно чайнику, прирос.
Сказала слугам Дьебелек:
«Их кони остановят бег —
Идите встретить, привязать,
Бегите, чтоб с почетом взять
И в юрту под руки вести
Богатырей, но лишь шести
Оставьте жизнь, алып седьмой
Теперь навеки будет мой!»
И коноводов шестьдесят
Навстречу выбежало вдруг.
И семьдесят проворных в ряд
К алыпам побежало слуг.
Спросили: «Первым у кого
По старшинству принять коня?»
В ответ им все до одного
Кричат алыпы: «У меня!»
Своих коней, поднявши крик,
Алыпы выпустили вмиг,
Те стали беркутами враз,
Взлетели и пропали с глаз,
Их серых крыльев след исчез,
Растаял в глубине небес.
Шулмусы-слуги говорят:
«Как всем обычаи велят,
Кто старший тут, пусть первым тот
По праву в юрту и войдет».
«Я самый старший,— говорят,—
Я старший!» —семеро кричат.
Прошли в проем златых дверей
Все разом — семь богатырей.
«Кто самый старший — сесть топу
В передний угол на кошму.
Почетным гостем будет он!» —
Доносится со всех сторон.
«Я старший здесь!» «Я старший » «Нет,
Я старший!» —слышится в ответ
Спор одинаковых мужей,
Крик молодых богатырей.
И, не решивши сесть кому
В передний угол на кошму,
Уселись с края, у стены.
Хозяева удивлены.
Несут им трубку, говоря:
«Для старшего богатыря».
Заспорив, семеро опять
Пустились трубку вырывать,
Сломалась трубка на куски...
Отменной крепкой араки
Сияющий златой звездой
Семь молодух несут чёёчёй.
Принявши золотой чёёчёй,—
В двух поколениях — хмельной,
И в поколении одном —
Не вспоминает ни о чем.
Поют, склоняясь как трава,
Протяжно-звонкие слова.
«Кто самый старший»,—говорят,—
Тот примет золотой чёёчёй».
«Я старший!» — семеро кричат.
Чёёчёй схватили золотой
И дергали его, пока
Вся расплескалась арака.
Богатый золотой чёёчёй
Разломан был на семь частей.
Хозяин Ай-каан седой
Тогда спросил богатырей:
«Проделавшие долгий путь
В постелях могут отдохнуть.
Уставшие скакать верхом —
Для вас готов прекрасный дом.
Согласны отдохнуть-поспать?»
И хором крикнули опять:
«Согласны!» —семеро мужей,
Семь молодых богатырей.
Шулмусы-слуги тут как тут,
В железный дом они ведут
Всех Когюдеев молодых
И запирают крепко их
На девяносто пять крючков,
На восемьдесят шесть замков.
И угля семьдесят пудов
Под дом железный принесли,
Огонь высокий развели,
Раздули в семьдесят мехов.
Железный дом со дна, с боков
Вмиг накалился докрасна,
Стал белоогненным, и вот
Постели в нем из чугуна
Расплавились, как будто лед.
Однако же из семерых
Алыпов славных, молодых
Один был Когюдей-Вода,
Он ворот расстегнул тогда,
Из чрева выпустил поток
Озер, им выпитых до дна,
На стены, пол и потолок,
И вся тюрьма — охлаждена.
А раздуватели огня,
Носами медными звеня,
Бегут к старухе Дьебелек,
Смеются: «Сгинули навек
Семь молодых богатырей,
А среди них и Когюдей!»
Но это что? Слышны из тьмы
Сквозь стены черные тюрьмы —
Громовый хохот, крики, гам!
Не оказался ль с ними там
Хозяин — Дух Алтая сам?
Назад направили свой бег
Шулмусы-слуги Дьебелек
И видят, как сквозь пар и дым
Идут — и каждый невредим —
Семь одинаковых мужей,
Семь молодых богатырей.
А семислойная тюрьма,
Огнем наполненная тьма —
Разрушилась на семь частей.
Богатыри, шагая в ряд,
Шулмусам черным говорят;
«Ээй, ээй, не как-нибудь,
Вы ловко сделали дворец.
Промерзшие за долгий путь,
Мы отогрелись наконец.
Уставшие в дороге, мы
В утробе огненной тюрьмы
Среди камней и чугуна
Вкусили сладостного сна».
Узнав, что снова удалось
Алыпам смерти избежать,
Кара-Таади — живая злость,
Готовит козни им опять.
Чтоб Когюдеев задержать,
Послала, яростью горя,
Тенек-Бёкё-богатыря.
Чугунная, во сто пудов,
В мешке дубина у него,
Из бронзы, в семьдесят пудов,
В огниве молот у него.
Встав на пути, Тенек-Бёкё
Сказал алыпам семерым:
«Пусть выйдет кто-нибудь из вас,
Хочу я побороться с ним!»
«Теперь пришла моя пора,
Вот наступил и мой черед!» —
Воскликнул Когюдей-Гора
И смело выскочил вперед.
Сошлись они, как свет и тень,
Столкнулись, точно ночь и день,
Как горы, встали на дыбы
В порыве яростной борьбы.
Тут легкий Когюдей-Огонь,
Преобразившись в уголек,
К Тенек-Бёкё мгновенно он
Запрыгнул в кожаный мешок,
Дубины тяжкой рукоять
У основанья пережег,
Залез в огниво и опять
Там пережег он рукоять
У бронзового молотка.
Как грозовые облака,
Упорно борются семь дней
Тенек-Бёкё и Когюдей,
Но пересилить-победить
Не удается никому —
И ночи солнца не затмить,
И свету не рассеять тьму.
Тенек-Бёкё — посланец зла,
Чья совесть черною была,
Дубиною ударил он,
И молотом ударил он.
Но молот бронзовый его
От рукоятки отлетел,
Но не случилось ничего,
И Когюдей остался цел.
Чугунная дубина вмиг
Переломилась пополам,
Но Когюдей-Гора не сник,
Врага схватил покрепче сам,
Затем от почвы оторвал
И над собой его поднял,
И негодующе сказал:
«Такого я не ожидал,—
Воскликнул громко, возмущен,—
Я думал, что играет он,
А негодяй в угоду злу,
Борясь, хотел меня в золу
И черный уголь превратить,
И на кусочки раздробить!»
Слугу противницы своей
Ударил оземь Когюдей.
Свет воссиял, пропала мгла,
Был побежден посланец зла...
Узнав об этом, Дьебелек,
Чьи волосы, как грязный снег,
Как черная змея шипит,
Как зверь, разгневанно рычит:
«Зачем сюда из-под земли
Свои подарки мы везли?
Гостей поили аракой?
Напрасно затевали той!»
И жалоб черные слова,
Ее шипение и вой,
Как ядовитая трава,
Лога наполнили собой.
Семь одинаковых мужей,
Семь молодых богатырей,
Подходят к белой юрте той,
Где Ай-каан сидит седой.
Один из славных семерых —
Всевидец Когюдей-Земля
Предупредил друзей своих,
Почуяв зло, сказал: «Нельзя
Садиться, братья, никому
В передний угол на кошму».
А быстрый Когюдей-Огонь,
Преобразившись в уголек,
Нить в юрте белой пережег.
Упала тонкая кошма,
И взорам всех открылась тьма,
Открылись в мрачной глубине
Пик острия на самом дне.
Тут изумленный Ай-каан,—
«Кто яму выкопал?» —сказал.
И возмущенный Кюн-каан,—
«Кто козни строит?» —прокричал.
Шумел собравшийся народ,
Но успокоился, и вот
Вновь многолетний, золотой
Продолжился великий той.
Алыпов Ай-каан созвал,
Властитель воинам сказал:
«Заданье трудное даю,
Бросаю жребий непростой.
Тому отдам я дочь свою,
Тот назовет ее женой,
Кто в состязаньях победит,
Всех остальных опередит».
«Пусть будет так!» — все шестьдесят
Каанов славных говорят.
«Согласны!» —семьдесят кричат,
Желаньем победить горят.
Сказал великий Ай-каан:
«Кто сможет из далеких стран,
Из-за семидесяти гор,
Из-за восьмидесяти рек,
Где желтокаменный простор,
Где на вершинах вечный снег,
Где голубой небесный свод
Уперся краем в твердь земли,—
Кто гору черную найдет
В недосягаемой дали
И от подножия ее
Доставит в стойбище мое
Две горсти черного песку,—
Тому отдам Алтын-Кюскю».
Так Ай-каан сказал, и вот
Зашевелился весь народ.
Золотошубые мои
С ковров кезеры поднялись.
Бронзовошубые мой
К горе алыпы понеслись.
В подземной ездящий стране
На светло-рыжем скакуне
Кувакайчи за ними вслед
Помчался, злобой подогрет.
Их кони лучшие летят
Сквозь день и ночь, мороз и зной.
Их лики пламенем горят.
Алтай остался за спиной.
Собравшись в стойбище, народ
Сильнейшего с победой ждет.
Здесь из алыпов семерых
Тот, кто средь воинов лихих
Был ловкий Когюдей-Прыгун,
Сказал: «Теперь и я смогу
На что способен показать,
Кезеров быстрых перегнать».
Взбежал Прыгун на горный склон
И прыгнул с места, где стоял,
И на холме высоком он,
Вмиг оказавшись, поплясал.
Допрыгнул до горы с холма,
Набрал там черного, как тьма,
Песка и принялся опять
Через десятки гор скакать.
Он полпути преодолел,
Когда услышал-разглядел:
Визгливо, хрипло хохоча,
Игриво, весело смеясь,
Серьгами медными бренча,
К нему по склону поднялась
Верхом на рыжем мотыльке
С свинцовым чайником в руке
Сама старуха Дьебелек,
Чья голова, как грязный снег.
Качаясь, старая поет
И, угощая, подает
Алыпу золотой чёечёй
С отравленною ара кой:
«В пути нелегком ты устал,
Прибавит сил тебе глоток.
Как ветер, быстро ты скакал,
Быстрее побежишь, сынок».
Так угощала Прыгуна.
И, выпив чашечку до дна,
Отравой пьяною сражен,
Упал на землю тут же он.
Старуха злобная, она
Накрыла ухо Прыгуна
Пустою чашечкою той,
Покрытой вязью золотой.
И, управляя мотыльком,
Вернулась в стойбище тайком...
Послушал Когюдей-Земля,
Услышал чутким ухом он:
Кааны множества племен
Песку набрали и в пути
Спешат друг друга обойти.
И всех коней опередив,
И всех алыпов победив,
Кувакайчи-обжора мчит,
На рыжего коня кричит,
Торопит плеткою, вот-вот
Песок каану привезет.
И Прыгуна услышав храп —
Тот спит беспамятен и слаб —
Тут Землю Слушающий встал,
Тревожно, громко закричал
И одного из семерых
Алыпов славных молодых
Позвал, чтоб Прыгуна спасти
И как-то в чувство привести.
И меткий Когюдей-Стрелок
Кладет на богатырский лук,
Летящую за сто дорог
Живую меткую стрелу.
Мелькнула молнией стрела,
Мгновенно спящего нашла,
В чёёчёй на ухе Прыгуна,
Летя, ударила она,
Разбился, разлетелся он,
Осколками усыпав склон.
Прыгун очнулся и вскочил,
По-над горами замелькал,
Всех обогнал, опередил,
Пред Ай-кааном славным встал,
Песок доставленный отдал,
«Я — Когюдей-Мерген!» — сказал.
Тут появляется за ним,
Уже не первым, а вторым —
Эрлика сын — Кувакайчи...
Опять озлобленно ворчит
Его коварная сестра:
«Мы столько всякого добра,
Подарков привезли, вина,—
Нам, по обычаю, должна
Быть дочь каана отдана,
Чтоб стать женой Кувакайчи!»
Но славный Ай-каан молчит,
Не слушает ее народ,
Второго состязанья ждет.
Когда кааны вновь сошлись,
Кезеры снова собрались,
Их Ай-каан к себе призвал,
Тяжелое заданье дал.
«Из-за семи десятков гор,
Из-за бесчисленных долин,
Чей в пышной зелени простор,
Конь не объедет ни один,
Торчит скала, и в ту скалу
Воткну я острую иглу,
Над семигранною горой
Поставлю палец золотой.
Кто сможет меткою стрелой
Их пополам переломить,
Тому алыпу, так и быть,
Я в жены дочь свою отдам»,—
Промолвил Ай-каан и сам
Большую острую иглу
Воткнул в гранитную скалу,
Над вечной черною горой
Поставил палец золотой.
И, луки натянув свои,
И, руки изогнув свои,
По пальцу и игле, по ним
Один стреляют за другим
Кааны множества земель,
Но поразить не могут цель.
И нету ни одной стрелы,
Чтоб долетела до иглы.
И не достигнут ни одной
Стрелою палец золотой.
На светло-рыжем скакуне
По мрачной ездящий стране,
Кувакайчи стрелу схватил
И в цель старательно пустил.
Не долетев, черна, как мгла,
Упала у горы стрела.
И даже Когюдей-Стрелок,
До пальца дострелить не смог.
Тут Когюдей-Мерген вскочил,
Стрелу крылатую схватил.
Со ста зарубками свой лук
Согнул прославленный кюлюк.
И загудело дно небес,
И зашумел могучий лес,
Земли поверхность сотряслась,
Заря средь ночи занялась.
Кровавокрасная стрела
Путь многолетний вмиг прошла,
И вместе с тонкою иглой
Сломала палец золотой.
Вот так каанов многих стран
Алып вторично победил,
Но тут великий Ай-каан
Скалу средь поля взгромоздил.
Большая черная скала
Девятигранною была.
«Тому из вас богатырю
Я дочь родную подарю,
Кто сможет камень раздробить,
Ногой на части разломить».
Кааны с трех сторон земли
Ногами били дотемна,
Скалу разрушить не смогли,
Стоит, не дрогнувши, она.
С лопатками, как валуны,
Скалу пинали силачи,
Лишь грохот слышался в ночи
При свете молодой луны.
Девятигранная скала
Стоит, не дрогнувши, цела.
Алтын-Бизе, Темир-Бизе —
Мужи, подобные грозе,
Могучие, в рассветной мгле
Ногами били по скале,
Большая черная скала
Стоит незыблемо, цела.
Алып, родившийся во мгле,
Кувакайчи — исчадье зла,
Когда ударил по скале —
Качнулась, дрогнула скала.
Кааны с четырех сторон
Стоят, глядят, удивлены.
Кезеры множества племен
Безмолвствуют, поражены.
Как только полдень наступил,
Сам Когюдей-Мерген вскочил,
«И я попробую!» —сказал,
К скале проворно подбежал,
Ударил крепкою ногой,
И разлетелась мошкарой
Девятигранная скала.
На месте, где она была,
Песок рассыпан, как талкан.
И Кюн-каан и Ай-каан
Поражены, удивлены.
И все батыры многих стран
Изумлены, восхищены,
И отступают, смущены.
И каждый в стойбище свое
Направил верного коня.
Тут дочь Эрлика предстает,
Бранясь, хозяина кляня:
«Мы, свадебный устроив той,
Зачем народ кормили твой?
Зачем поили аракой
Весь этот съехавшийся сброд?
Выходит все наоборот!
Из наших рук, каан, ты пьешь,
А дочь — другому отдаешь?»
Стояла так она, крича,
Серьгами медными бренча.
Шагнул к ней славный Когюдей,
Колдунье бешеной сказал:
«Еды отравленной твоей
Не ел, веселья не видал,
Вина поганого не пил,
В трех состязаньях победил,
Алтын-Кюскю теперь должна
Со мною ехать, как жена.
Не прыгай ты, как воробей,
Как сеноставка — не свисти,
Иначе до страны своей
Костей тебе не донести.
Все поломаю, как одну,
И набок голову сверну!»
Кара-Таади, как зверь, рычит,
От злости, как змея, шипит:
«Тебе я это не прощу,
Тебе за это отомщу.
Я на любом пути твоем
Пихтовым повалюсь бревном,
Густым валежником паду,
В любой стране тебя найду.
Узнаешь горе и беду,
Я в стойбище твое приду
И за собою уведу
В подземный мир отца и мать,
Тебе их больше не видать,
Обиды этой не прощу,
В подземный мир тебя спущу!»
Так дочь Эрлика поклялась,
Земля под нею сотряслась,
Поднялся ядовитый дым.
С народом, и добром своим,
И с братом — прыгнула она
Сквозь семь слоев земли — до дна,
Багровой шеею мелькнув,
Огромным носом громыхнув.
Рассеялся поганый дым,
Пропал отравленный туман.
Тут пред алыпом молодым
Встал знаменитый Ай-каан:
«Ты в состязаньях первым был,
В трех испытаньях победил,
И ты по праву заслужил
Алтын-Кюскю с собою взять,
Но только как ее отдать?
Исчезла где-то дочь моя,
А где — и сам не знаю я.
Алтая дали обойди,
Скорей негодницу найди!»
Так Ай-каан сказал. И вот
Пир девяностолетний стих,
Затих собравшийся народ,
Седлает скакунов своих
И отправляется домой,
Великий вспоминая той.
А шестеро богатырей,
Шесть одинаковых мужей,
Теперь вернулись на Алтай,
В благословенный отчий край...
А Когюдей-Мерген опять
В пути — отправился искать
Дочь Ай-каана. И Алтай
Объехал он из края в край.
Его дороги пролегли
По всей поверхности земли.
Дорогой следуя своей,
На перепутье Когюдей
Чугунный молот увидал,
Двухсотпудовый, он лежал,
Пути-дороги преградив,
До камня почву продавив,
Остановился, молвил конь:
«Хозяин, правою рукой
Чугунный молот подыми,
С собою в путь его возьми».
Воитель так и поступил:
Склонившись, молот ухватил,
Перед собою положил,
Своей дорогой поспешил.
Проехал дальше, перед ним,
Алыпом славным, молодым,
Встает с восточной стороны,
Закрыв глаз солнца и луны,
Девятигранная гора
С вершиною из серебра.
Семиступенчат черный склон,
К макушке белой вознесен.
Тут темно-сивый конь сказал,
Конь белогривый наказал;
«Чугунным молотом семь дней
Без передышки в гору бей».
Взяв молот, соскочив с коня,
Три и еще четыре дня
Тяжелым молотом алып
Крушил громады горных глыб.
Он семь ночей стучал без сна,
Семь дней без отдыха стучал,
И стала на восьмой видна
Дыра, зияющий провал.
Оттуда глас пророкотал:
«Днем отнимающий покой,
Сон отгоняющий в ночи,
Восьмые сутки — кто такой
Чугунным молотом стучит?»
Пока открывшийся провал
Алыпа грозно вопрошал,
Зиял, грозил и грохотал,
Алып могучий — мухой стал,
Конь в овода преображен,
И сквозь провал, разъявший склон,
Как в пасть медведя — комары,
Они влетели внутрь горы.
Глядит алып и видит вдруг —
Жилье богатое вокруг,
Дворец в сиянье серебра
Скрывала черная гора.
Глядит алып: у очага
Согнулась старая карга,
Чьи серьги — медные котлы,
Чьи зубы — остриё иглы,
К чьему лицу огромный нос —
Как чайник бронзовый прирос.
Тут волосы, как грязный снег,
Сидит и чешет Дьебелек.
Глядит алып: а рядом с ней
Златого солнышка светлей,
Луны прекрасней молодой,
Сидит в одежде дорогой,
Чиста, как горные снега, —
Алтын-Кюскю у очага.
Но говорит алыпу конь:
«Ты эту девушку не тронь,
Ты рядом с нею не сиди,
Эрлика дочь — Кара-Таади,
Коварное исчадье зла,
Невесты облик приняла».
Об этом Когюдей узнал,
Встряхнулся он и прежним стал,
И подошел он к Дьебелек.
И, руки слив, как русла рек,
Раскрыв ладони, как луга,
Они сошлись у очага.
И Когюдей-Мерген сказал:
«Стреляющий, я в цель попал,
Чего хотел, того достиг,
К чему стремился — получил».
Увидев это, в тот же миг
На землю грохнулась без сил
И прежний облик приняла
Кара-Таади — свирепа, зла.
Необижавшаяся дочь
Эрлика — так оскорблена,
Неоскорблявшаяся дочь —
Так разобижена она,
Что страшным голосом кричит,
Алыпу славному грозит:
«Вновь отказался от меня!
Под землю уведу твой скот,
Лишу навеки света дня
Живущий мирно твой народ.
Вражду посею и нужду,
И всех с земель твоих сведу!
На муки вечные во тьму
Маадай-Кара, Алтын-Таргу
С собой в подземный мир возьму,
Суставы-косточки сожгу.
Коль я тебя не погублю
И аргамака твоего, —
Себе я голову срублю,
Коня зарежу своего!» —
Колдунья, злобою горя,
Слова такие говоря,
Лизнула сабли острие,
Лизнула черное копье.
Услышав это, Когюдей
Раскатисто захохотал,
В ответ на это Когюдей
Слова суровые сказал:
«Коль аргамака моего
Волкам не удалось поймать,
То ты, злодейка, об него
Лишь зубы сможешь поломать.
Коль ворон выклевать хотел
Мои глаза, но не сумел,
То ты, злодейка, от меня
Сбежишь, как темень от огня.
Убить скалою не могли —
Ты хочешь пуговкой убить.
И морем яда не сожгли —
Ты хочешь в молоке сварить!
Я умирать не тороплюсь,
В края алтайские вернусь.
И вечно будет мой народ
Жить мирно на земле своей.
И вечно будет белый скот
Толпиться у моих дверей.
В свою поганую страну
Навеки убирайся прочь,
Иначе — голову сверну!»
От этих слов Эрлика дочь —
Исчадье подлости и зла,
Исчезла, точно не была.
И горький стон, и злобный крик,
И долгий шум, и тяжкий гул
Во тьме подземной утонул.
Дочь Ай-каана в этот миг
Свой прежний облик приняла,
Вид настоящий обрела:
Луноподобный светлый лик —
Подобно золоту сверкал.
Солнцеобразный ясный лик —
Как серебро легко сиял.
Его на солнце не сменять
И на луну не променять:
Прекрасней молодой луны
И краше утренних лучей.
Густы косички и длинны
Стекают до земли с плечей.
Подобен звездам — свет очей.
А щеки — радуги свежей.
Наряд сверкающий на ней,
Расшитый золотом, богат,
Полночной россыпью огней
Полсотни пуговиц горят.
Свежа, красива и светла —
Такою девушка была.
Приблизившись учтиво к ней,
Промолвил славный Когюдей:
«Я в состязаньях первым был,
Я всех алыпов победил.
Скажи: поедешь ли со мной
И станешь ли моей женой?»
Ему навстречу сделав шаг,
Алтын-Кюскю сказала так:
«Соболья легкая спина
С рожденья легкой создана.
Какая доля нам дана,
Такою быть она должна.
В морозы греющая шерсть
С рождения у зверя есть.
Алыпу славному нужна
Подруга, верная жена.
Придется ехать мне с тобой,
Придется стать твоей женой...»
Садятся на своих коней
Алтын-Кюскю и Когюдей.
Быстрее пущенной стрелы
Их кони из подземной мглы
Доставили на белый свет,
И долгий путь — в десятки лет —
Алтын-Кюскю и Когюдей
Преодолели за семь дней.
Вот впереди уже видна
Отца Алтын-Кюскю страна.
Богатыря подлунных стран
И дочь увидев, Ай-каан
Идет, в руках у старика
Златая чашка молока.
«Я думал, удалось украсть
Кувакайчи тебя тайком.
Как хорошо, что ты нашлась!» —
Сказал и чашку с молоком
Вручает дочери своей.
«О, достославный Когюдей,
Веселый свет моих очей!
Твои намеренья чисты,
И заслужил по праву ты
Алтын-Кюскю назвать женой,
Мой белый скот погнать с собой.
Но не отправился пока
В свою далекую страну,
Уважь каана-старика
И просьбу выполни одну.
Она пустячна и проста:
Есть в море черном два кита,
Плавник отрежь у одного
И привези сюда его...»
Коварного каана дочь,
Желая воину помочь,
Тревожно-тихо говорит:
«Лежащий в Тойбодыме кит
И младший брат того кита —
Убили множество людей.
Каана просьба не проста,
Едва ли справишься ты с ней.
Недоброе заданье дал,
На смерть отец тебя послал...»
Смеясь, ответил Когюдей:
«Богатыри страны твоей
Неужто боязливы так,
Неужто страшен им червяк?»
На верного коня вскочил,
Стрелою к морю полетел,
И путь, который долгим был,
В единый миг преодолел.
Остановившись, видит он:
Сливаясь с девяти сторон,
Кипят заливы перед ним
Большого моря Тойбодым.
Оказывается, там, на дне,
В холодной темной глубине,
Киты огромные лежат,
Земли пределы сторожат.
Увидев это, Когюдей
С коня слезает поскорей
И в Тойбодым ныряет он,
В большую рыбу превращен.
На дне, в холодной глубине,
Держащих землю на спине,
Китов увидел он и вмиг
Схватил зубами за плавник,
И дернул старшего кита,
И от разверзнутого рта,
Как свет мгновенный, — ускользнул,
На берег выскочил стрелой,
И, слыша близкий рев и гул,
Вид богатырский принял свой.
Кит разъяренный только всплыл,
Как тут же за ухо схватил
Его могучий Когюдей.
Семь дней боролись, семь ночей,
Расплескивая Тойбодым,
И, наконец, лишенный сил,
Повержен мужем молодым,
Огромный кит заголосил:
«Чего ты хочешь? — кит спросил, —
Зачем явился? Кто такой?»
Ответил воин молодой:
«Я — Когюдей-Мерген,— сказал,—
Зла на тебя я не держал,
Но поручил мне Ай-каан
Взять и в его доставить стан
Твой, мир меняющий, плавник.
Такое выдумал старик...»
Ответил добрый кит ему,
Сказал алыпу моему:
«Ну что ж, тебе я помогу.
Возьми плавник на берегу.
Он брату моему служил
И плавником подменным был.
Вези на стойбище его,
Смотри, что будет из того».
Затем, огромный, как гора,
Из нижних ребер — два ребра
Кит на прощание достал
И Когюдею их подал.
Съел ребра славный Когюдей —
Десятикратно стал сильней,
Стал в девять раз мощней, чем был.
Кита он поблагодарил,
Обратно в море отпустил.
Сам вышел на берег пустой,
Плавник китовый золотой
Взял, бросил поперек седла.
На мир, черна, упала мгла,
Закрыла солнце в небесах,
И скрылась ясная луна,
И разогнал народы страх,
И опустела вся страна,
Во тьму погружена земля...
Сам Ай-каан идет, моля:
«С моих полей ушел весь скот,
От страха спрятался народ,
Плавник китовый поскорей
Ты увези с земли моей!»
Сказал с досадой Когюдей:
«Велят сначала — привези,
Потом — обратно увези!
Ты эту странную игру,
Каан, затеял не к добру...»
Так Когюдей-Мерген ворчал
И, повернув коня, помчал,
На место положил плавник,
Назад вернулся в тот же миг.
Его встречает Ай-каан
И привечает Ай-каан:
Едой прекрасной стал кормить,
Отменной аракой поить.
Сам опечаленный сидит,
Притворно-горько говорит:
«Когда погонишь белый скот
В свои края с моих земель,
С тобой наверняка уйдет
И мой сторожевой кобель.
Что станет с юртою моей?
Что делать старому? Как быть?
Без пса цепного у дверей
Спокойно невозможно жить...
Медведя, черного самца,
За дальнею горой найди,
К дверям аила — вместо пса —
В цепях железных приведи...»
Тут несердившаяся дочь
Сердиться сильно начала,
Необижавшаяся дочь
Сдержать обиды не смогла:
«Зачем так шутите опять?
Зачем решили вы послать
На гибель верную его
К не пропускавшим никого
Медведям черным — духам гор? »
В ответ на этот разговор
Расхохотался Когюдей:
«Неужто на земле твоей
Нет доблестных богатырей,
Не убоявшихся дорог,
И черный страшен им торбок?
Ну что же, я его найду
И, как ручного, приведу».
На верного коня вскочил,
Стрелою быстрой полетел,
И путь, который долгим был,
В одно мгновенье одолел.
Проехав через семь степей,
Подъехал славный Когюдей
К высокой крепости-горе,
Чей гребень в снежном серебре
Закрыл собою глубь небес.
Воитель с аргамака слез,
Тяжелым молотом своим
Семь дней он гору колотил,
Пробил дыру, и черный дым
Из тьмы подземной повалил.
Огромных семьдесят камней
В провал обрушил Когюдей,
В широкий черный дымоход.
Тут рев послышался, и вот
Рассерженный медведь-самец
Из тьмы берлоги, наконец,
Ревя разгневанно, полез,
Круша на склоне толстый лес,
Сметая россыпи камней.
Могучий воин Когюдей
Медведя черного того
За ухо правое его
Рукою крепко ухватил.
Семь дней боролся, семь ночей,
Но пересилил-победил
Медведя славный Когюдей,
Стреножил, на цепи повел.
В бессильной злобе стал реветь
И ревом гору расколол
До основания медведь.
Размалывая камни, шел.
Продавливая землю, брел.
В провал от каждого следа
Сочилась грязная вода.
Гремя цепями, грозен, он
В стан Ай-каана приведен.
Его увидел белый скот —
С зеленых пастбищ побежал,
При виде зверя весь народ
За восемь гор откочевал.
Испуган старый Ай-каан:
Не удался коварный план.
И, неудачею смущен,
Из белой юрты вышел он.
Неумолявший — стал молить.
Непреклонявшийся — просить:
«Поразбежался белый скот,
Перепугался мой народ.
Веди медведя поскорей
От наших стойбищ, Когюдей!»
«Сначала просят — приведи,
Потом — обратно уведи...
Ээй, каан, не для добра
Тобой затеяна игра!» —
Так Когюдей-Мерген ворчал.
Медведя черного он взял
И, доведя до полпути,
Освободил. Медведь сказал:
«Когда, алып, родился ты,
Возрос в алтайской стороне,
То сердце дрогнуло во мне.
Наверно, чуяло оно,
Что встретиться нам суждено».
Медведь огромный, как гора,
Из нижних ребер — два ребра
Когтистой лапой достает
И Когюдею отдает.
Съел эти ребра Когюдей,
Был сильным — стал еще сильней.
Был мощным — стал еще мощней.
Медведя поблагодарил,
В обратный путь коня пустил.
Приехавши, проговорил:
«Ээй, великий Ай-каан!
Проехал я немало стран,
Преград немало одолел,
Исполнил все, что ты хотел,
Теперь пора мне на Алтай,
В благословенный отчий край», —
Сказал воитель старику.
Красавица Алтын-Кюскю
Тут заседлала скакуна,
Надела на себя она
Одежды ярче, чем луна,
И собрала свое добро —
И золото, и серебро.
Часть от скота не отделив,
Склонилась пред отцом она.
Народа часть не отделив,
Простилась с матерью она.
Алтын-Кюскю и Когюдей
Своих направили коней
На златокаменный Алтай,
Маадай-Кара богатый край.
Прошло немного, много ль дней,
Услышал славный Когюдей,
Что Ай-каана белый скот
За ним с мычанием идет,
И, оглянувшись, увидал:
Кочуя с шумом, их догнал
Люд Ай-каана — сто племен.
Виденьем этим удивлен,
Алып коня остановил.
И аргамак проговорил:
«Плеть золотую брось назад,
Пусть скот обратно повернет.
Нож богатырский брось назад,
Пусть возвращается народ».
И, бросив плеть свою назад,
Алып вернул обратно скот.
И, кинув нож стальной назад,
Каану возвратил народ...
Алтын-Кюскю и Когюдей
На полпути к земле своей,
Проделав многодневный путь,
Остановились отдохнуть.
Алтын-Кюскю, как день, светла,
Внезапно облик приняла
Серебряного мотылька
И поднялась под облака.
Алып могучий Когюдей
Степною птицею за ней
Взлетел на крыльях золотых,
И облака укрыли их.
Как лепесток, как уголек —
Мелькнул над морем мотылек
И верткой рыбкой золотой
Исчез под синею водой.
Упала птица на волну,
Нырнула камнем в глубину,
И стала выдрой золотой,
И погналась за рыбкой той.
Поймав ее, с морского дна
На берег вынесла она.
Тут, прежний облик свой вернув,
Смеются, славно отдохнув,
Алтын-Кюскю и Когюдей
Садятся на своих коней.
Стрелою легкой полетев
И звонко-весело запев,
Земель достигли наконец,
Где жил в сиянии добра
Алыпа славного отец —
Каан седой Маадай-Кара.
Остановив своих коней,
Алтын-Кюскю и Когюдей
Стоят и смотрят на Алтай,
Сияющий в покое край.
Покрыта лунная земля
Цветами белыми, как снег,
В цветенье солнечном поля,
По берегам прозрачных рек
Семь гор — высоких крепостей,
Сверкая гранями, стоят.
Небес полуденных синей
Десятки быстрых рек шумят.
Стоствольный тополь-исполин
С железной, крепкою корой
Сияет в зелени долин
Злато-серебряной листвой.
Кукует весело на нем
Кукушек пара золотых,
На солнце радостным огнем
Сияет оперенье их.
И, расплодившись, белый скот,
Стократ умножившись, живет.
Став многочисленней, народ
Давно не ведает забот.
Хвост длинный вытянувши свой,
Не докучает волк стадам.
С кровавой саблею стальной —
Пути заказаны врагам.
Тут Когюдей с женой своей
С горы направили коней.
Народ их выбежал встречать,
Почтенные отец и мать
Навстречу сыну поднялись,
Поцеловались-обнялись.
Им Когюдей-Мерген сказал;
«Теперь нашел я, что искал.
Я в состязаньях первым был,
Я всех алыпов победил,
Красавицу привез с собой».
«На девять лет устроим той,
Семь лет мы будем пировать», —
Так говорят отец и мать.
От встречи с родиной своей
Безмерно счастлив Когюдей.
Легко дыхание коня.
Алыпа лик — светлее дня.
На пир собравшийся народ
Красиво-весело поет.
Конины жирные куски
Лежат высокою горой.
Обилье крепкой араки
Сравнимо с вешнею рекой.
Псы голодавшие — сыты,
Подняли пестрые хвосты.
Освободившийся народ —
Теперь, блаженствуя, поет.
Чтоб детям весело играть,
Шелка расстелены — играй.
Чтоб милым женщинам ступать,
Шелка натянуты — ступай.
В долине светлой Ойгылык
Веселье молодых парней.
В долине тихой Кыйгылык
От милых девушек светлей...
Весельем переполнив мир,
Свершив девятилетний пир,
Закончив семилетний той,
Алып построил золотой
Аил на родине своей,
С женой прекрасной молодой
Спокойно зажил Когюдей...
Песнь четвертая
...Прошло немного, много ль дней,
Однажды видит Когюдей,
Что у слиянья бурных рек
Семиколенный бай терек,
Склонившись к западу, стоит,
Едва листвою шевелит.
«Что это значит?» - он спросил
И книгу мудрости открыл,
Листая, стал ее читать.
И оказалось, что опять
Кара-Таади - Эрлика дочь -
Колдунья черная, как ночь,
Сюда направила пути,
Чтоб в мир подземный увести
С собой отца его и мать,
Навек родителей забрать.
Алып стремительно вскочил,
В аил отцовский поспешил,
Как будто громом поражен,
Войдя туда, увидел он:
Лежат мертвы отец и мать.
Он стал сердца их согревать
Лучами солнца и луны,
Огнивом искры высекать -
Тела остались холодны...
И, отвернувшись, зарыдал,
Сраженный горем, Когюдей.
Его жена Алтын-Кюскю,
Согнувшись, плакала семь дней.
Тут богатырь народ собрал,
Печально воинам сказал:
«Скакун любой - не золотой,
Не вечно ходит под луной,
И не бессмертен человек,
И каждому отмерен век».
Тяжелым горем удручен,
Еще сказал народу он:
«Родителей иссякли дни,
В груди свет разума угас.
Алтай покинули они.
Навек теперь ушли от нас».
Каанов множества племен
Созвал на похороны он.
Гроб, выложенный серебром,
Стоит в сиянье золотом,
Внесли его в гранитный дом,
В неразрушающийся дом,
И погребли умерших в нем...
Отца и мать похоронив,
Народ печальный угостив,
Горюя, семьдесят ночей
Сидел в аиле Когюдей.
Когда прилег усталый он,
Ему приснился страшный сон:
Кара-Таади, покинув тьму,
Пришла и говорит ему:
«Теперь отец подземный мой,
От века властвующий тьмой,
Тебе, могучий Когюдей,
С женой прекрасною твоей
К нему явиться приказал.
Так передать он наказал».
Услышав это, Когюдей
От гнева вскрикнул, возмущен,
Из юрты выскочил своей,
Открыв глаза, увидел он:
Идет - с отравленной стрелой,
С чугунной палкою кривой,
С непритупляемым копьем,
В своем наряде колдовском,
Поскрипывают башмаки,
Побрякивают две серьги -
Кара-Таади - Эрлика дочь
И за собою тянет ночь.
Ее глубокие следы
Полны отравленной воды,
За нею - смерть, и тлен, и прах,
Живое - сохнет на глазах.
Жилье покинувши свое,
Дрожит и прячется зверье.
Доносится подземный гул,
Из глубины несется гром...
Алып навстречу ей шагнул,
Горою встал перед врагом -
И словно луч во тьме сверкнул,
И воссияло все кругом.
Как яростный медведь-самец
Он оглушительно взревел:
«Тебе, негодная, отец
Убить с женой меня велел?
Эрлик приказ отдал такой?»
И несгибаемой рукой
Схватил в охапку духа зла!
Четыре толстые кола
В долину глубоко вогнал,
И к ним колдунью привязал,
И на пупе земли распял.
Колючих прутьев наломал,
И дочь Эрлика Когюдей
Стегал, покуда семь костей
Не показалось на спине.
Змеею черною в огне
Вилась и корчилась она,
И кровь ее текла - черна.
И некричавшая - как зверь
Кричит под прутьями она.
Неумолявшая, теперь
Взмолилась черная жена:
«Зачем из-за Кара-Кула
Себя на муки обрекла,
С тобой решила враждовать?
Зачем из мести увела
Во тьму - твоих отца и мать?
Ты победил меня опять,
Удача умерла моя,
Твоей удаче вновь сиять...»
Тут, извиваясь, как змея,
Колдунья испустила дух,
Рассыпалась шаманка в прах.
И о ее кончине слух
Пронесся громом в трех мирах.
А Когюдей-Мерген берет
И задом наперед кладет
Седло на спину скакуна
И в темноту земного дна,
Где вечно правит бий Эрлик,
Как пуля, пролетает вмиг,
Спускается в подземный мир,
В бессолнечный, безлунный мир,
И тут, где мрак со всех сторон,
Дорогой темной едет он.
Торчит осина меж камней,
На ней могучий Когюдей
Коня заметил одного -
В копытах дыры у него,
Привязан за ноги к ветвям,
На корм оставленный червям,
Мешком гниющим он висит,
Сочится кровь из-под копыт.
Алып виденьем изумлен,
Спросил: «За что страдает он?»
И темно-сивый аргамак
Богатырю ответил так:
«Когда гулял он по земле
И седока носил в седле,
Немало залягал детей
Безмозглый, бешеный злодей.
Боль причиняя людям, жил
И злую муку заслужил».
Дорогой следуя своей,
Увидел дальше Когюдей:
Стоит в долине черный бык,
Тяжелой головой поник,
Не может голову поднять,
От почвы морду оторвать.
Бык запаршивел, отощал,
Как месячный телок, мычал,
На каждом роге у него
Тяжелый груз из чугуна.
У аргамака своего, -
«Скажи мне: в чем его вина?» -
Могучий Когюдей спросил.
«Когда он на Алтае жил,
Без счета забодал людей,
Безмозглый, бешеный злодей».
Увидел дальше Когюдей:
Во тьме отравленных полей
Собака желтая плелась,
Ее изъязвленная пасть
Железным скована кольцом,
Тяжелым залита свинцом.
«Кусала всех-тупа и зла,
Такую муку обрела»,-
О ней сказал алыпу так
Его могучий аргамак.
Увидел дальше Когюдей
Двух тощих, в рубище людей.
Оказывается, муж с женой
Сидели, плача, над едой,
Поесть, однако, не могли -
Все друг от друга стерегли.
И ни одною из восьми
Укрыться шубой не могли.
«Чужую где-нибудь возьми!» -
Кричали, спать ложась в пыли.
Па это глядя, Когюдей,-
«Что делают они?» -спросил.
«При жизни грабили людей,
Копили, не жалея сил.
При жизни над своим добром -
Скотом, мехами, серебром -
Они дрожали день и ночь,
Другим не думая помочь.
За это суждено им здесь
Не одеваться и не есть».
Дорогой следуя своей,
Еще увидел Когюдей:
Какой-то человек худой,
За пуп привязанный уздой,
Едою окружен, стоит
И дотянуться норовит
Рукою слабой до еды,
Худой ладонью до воды.
Не может дотянуться он
И молит-просит, истощен.
Алып виденьем изумлен,
Спросил: «За что страдает он?»
И белогривый аргамак
Ответил Когюдею так:
«Когда на воле он ходил,
Когда он на Алтае жил,
Коня не холил, не кормил,
А лишь привязывал к столбу.
За нерадивость заслужил
Такую тяжкую судьбу».
Среди покрытых тьмой степей
На темно-сивом скакуне
Проехал дальше Когюдей
И видит: богатырь на пне
В седле с подпругами сидит
И съехать с места норовит,
Охаживает плетью он
Пень под собою с двух сторон.
«Скажи - за что наказан он?» -
Алып спросил - ответил конь:
«Тот, кто безжалостно коней
И без разбору плетью бил,
Тупой жестокостью своей
Такую муку заслужил».
Проехал дальше, увидал
Наш богатырь у трех дорог:
Какой-то человек скакал,
Как рыба, пойман на крючок
За волочащийся язык,
И, издавая жуткий крик,
Он бегал, разевая рот,
От юрты к юрте взад-вперед.
«За что на муки обречен?» -
Алып у скакуна спросил.
«За сплетни мучается он»,-
Конь белогривый пояснил.
Алып направил дальше бег,
Но, криком остановлен вдруг,
Глядит: подвешен человек
За уши длинные на сук.
«За что он муку заслужил?» -
Алып у скакуна спросил.
«Тайком подслушивать любил»,-
Конь темно-сивый пояснил.
И тут же человек сидел,
Годами не смыкая глаз,
Век не смежая, он глядел,
Но взор его давно погас.
Два века верхние его
Пришиты нитками к бровям,
Давно не видит ничего,
Но глаз закрыть не может сам.
«За что он муку получил?»
«Тайком подглядывать любил».
Поехал дальше Когюдей
Дорогой трудною своей.
На перепутье видит он:
Стоят две юрты с двух сторон,
И между ними человек
Не прекращает вечный бег,
Со свистом дышит, запален,
Не ест, не спит с женою он,
Он бегает из года в год
От юрты к юрте взад-вперед.
Едва в одну шагнет ногой,
Бежит, измученный, к другой.
«За что мучение?» - спросил
У аргамака Когюдей.
«За то, что вольной жизнью жил,
Не предан был семье своей;
Семьей своей не дорожил -
За это муку заслужил».
Минуя ядовитый луг,
Охотника заметил вдруг:
Натягивая белый лук,
За быстрым зайцем он бежал,
Чуть лук поднимет - зверь пропал.
И бегать так навеки он
За этим зайцем обречен.
Конь белогривый пояснил:
«Когда он на Алтае жил,
Зверей с излишком добывал,
Птиц без разбору убивал.
За жадность и жестокость он
На эту муку обречен».
Дорогой следуя своей,
Еще увидел Когюдей:
Кричат, дерутся муж с женой
Над шубой старою, дрянной,
И оба враз кричат «мое!»,
Пытаясь захватить рванье.
Конь Когюдею пояснил:
«Тот муж своею жизнью жил,
Собою только дорожил.
Его недобрая жена
Была в себя лишь влюблена.
Их жизнь сквалыжною такой,
Как на земле была она,
Им и под темною землей
Оставлена и продлена».
Еще заметил Когюдей
В тени осины двух людей.
Лежат спокойно муж с женой,
Укрыты шубою одной.
Жена глядит - укрыт ли муж,
А муж - укрыта ли жена,
И ни одна из страшных стуж
Тем людям дружным не страшна.
«Кто это?» - Когюдей спросил,
Конь белогривый пояснил:
«Их жизнь нелегкою была,
Но мирно, счастливо текла,
И под землей теперь она
Им бесконечно продлена...»
Так, мимо мучимых коней,
Быков, собак, людей - семь дней
Проехал славный Когюдей
Дорогой трудною своей.
И дальше двинулся вперед,
По землям Эрлик-бия он.
Подземный пакостный народ,
Его увидя, удивлен.
Жабоподобные глядят,
Свинообразные галдят:
«Коль на коня смотреть его -
То на живого конь похож.
Смотреть на мужа самого -
Живой иль нет - не разберешь...»
Алып увидел, наконец,
Из грязи сделанный дворец,
И устремляется к нему,
К Эрлику-бию самому.
Эрлик, следящий сто дорог,
Ужасный, вышел на порог,
Сметая бородой своей
Громады черные камней,
Усы на уши накрутив,
Как пропасть, черный рот открыв.
Алып, Эрлика увидав,
На дудке лихо заиграл,
И, притворившись пьяным, стал
Протяжно-весело кричать.
Брыкаться белогривый стал,
Как необъезженный, скакать.
Алып к Эрлику подлетел,-
«Эзень, эзень (49),
Эрлик,-пропел.
Качаясь пьяно, слез с коня: -
«Скажи, зачем ты звал меня?»
Его приветствуя, Эрлик
Алыпу руку протянул,
И богатырь могучий вмиг
Навстречу злобному шагнул,
Рукою левою своей
Эрлика за руку схватил,
Густую бороду его
На правый локоть накрутил,
На черный камень повалил,
Железной цепью приковал
И на пупе земли распял.
Схватил небесную стрелу,
Лук натянув, пустил во мглу.
Живая красная стрела
Насквозь подземный мир прошла:
Змееобразных удальцов,
Свиноподобных молодцов,
Кровососущих мерзких слуг -
Стрела скосила всех вокруг.
Алып Эрлика злого сжег,
Чтоб возродиться он не смог...
На скакуне алып скакал,
Во мраке Когюдей искал
Своих родителей седых -
Нигде не видно было их.
Тут аргамак ему сказал:
«Кара-Таади, исчадье зла,
Тела их старые сожгла,
Чтобы не мог ты их найти,
В края Алтая увести...»
«Ну что ж,- ответил Когюдей,-
Достойных много тут людей.
Я их теперь освобожу,
Дорогу к солнцу укажу».
Те, доля чья под властью зла
Во тьме безрадостной была,
Кого навек укрыла мгла,-
Народ из тьмы забвенья встал,
Бесчисленней весенних птиц -
В сиянии счастливых лиц
Так Когюдея прославлял:
«Огонь погасший ты зажег,
Умерших, нас ты воскресил,
Из царства мрачного извлек,
Эрлика злого победил.
Освобожденные из тьмы -
Мы спасены, свободны мы!
В цветы преобразивший прах,
Пусть имя славится твое,
Незабываем будь в веках -
Разрушивший небытие,
Для жизни возродивший тлен -
Великий Когюдей-Мерген!»
Как стаи ласточек, народ
На лунно-солнечный Алтай
Тропою темною бредет -
В родной благословенный край.
А Когюдей-Мерген берет
Живую мощную стрелу,
На лук испытанный кладет,
Пускает над собой во мглу.
Девятислойный свод земли
Стрела прорезала насквозь,
В недосягаемой дали
От грома небо сотряслось.
Луны не видевший народ
Увидел тихий свет луны.
Не знавшим солнца - сто дорог
На солнечный Алтай видны.
Непобедимый Когюдей
Дорогой светлой и прямой,
Встав впереди, повел людей
В края алтайские, домой.
Как свет мгновенный полетел,
Вернувшись, землю оглядел:
Увидел - разномастный скот
Еще тучней, обильней стал.
А многочисленный народ
Красою новой заблистал.
Собрав народ, алып сказал:
«От этих дней - из года в год
Приумножаться будет скот.
Живите общею судьбой
И не враждуйте меж собой.
Живите, как одна семья,
Любите отчие края.
Я попиравшего Алтай
Каана жадного убил.
Вернул народы в отчий край,
Чтобы свободно каждый жил.
Эрлика злого победил,
Царившего в подземной мгле,
От смерти вас освободил.
Живите мирно на земле.
В пределы родины моей
Отныне не нагрянет враг.
И никогда теперь людей
Не уведет Эрлик во мрак.
На лунно-солнечной земле
Живите вечно с этих дней,
В покое, счастье и тепле
Растите радостных детей.
Я подымусь на небосвод,
И стану яркою звездой
Смотреть оттуда, как живет
Народ освобожденный мой.
В любых краях с заката дня
Среди небесной темноты
Всегда отыщете меня,
Я - вас увижу с высоты».
Так молвил славный Когюдей
И улетел с женой своей.
Но стали звездами они
На небосводе - не одни.
Гляди - семь звезд сияет в ряд,
То - Семь Каанов (50),
говорят,
Семь одинаковых мужей,
Семь молодых богатырей,
И каждый - с виду Когюдей -
Они на свадьбу, говорят,
По небу вечному спешат,
Спешат могучие туда,
Где светит вечной красотой,
Стоит Алтын Казык(51)
звезда -
Невеста, ставшая звездой.
Еще в народе говорят,
Что в глубине небес горят
Три Маралухи - Юч-Мыйгак.
Чуть выше их, всегда красна,
Пробившая небесный мрак,
Звезда еще одна видна.
И это, люди говорят,
Алыпа славного стрела,
Что много-много лет назад
Каану душу прервала,
Стрелою той пронзить пришлось
Одну из маралух насквозь.
Алыпа славного добро -
Все золото и серебро,
В земле Алтая, говорят.
Алыпом выращенный скот,
Тучнея, до сих пор живет
В полях Алтая, говорят.
* * *
Дошло сказанье до конца,
Слова иссякли у певца.
Примечания
1 Алып — древнетюркское наименование богатыря.
2 Бай терек (богатый тополь)—священное родовое
эпическое древо, около которого совершалось жертвоприношение.
3 Шулмусы — подземные духи-оборотни, выходящие
на землю и, приняв облик людей, творящие зло.
4 Эрлик-бий — властелин подземного мира.
5 Тайгыл — крупная сторожевая собака.
6 Аргамак — неудержимый крылатый скакун.
7 Аил — юрта. В данном случае: ханский дворец (ёргё).
8 Айбыстан — второе имя Эрлика (встречается редко).
9 Юч-Курбустан — эпический верховный бог, властелин
верхнего (небесного) мира (в шаманизме именуется Ульген).
10 Маральник — горный кустарник, ярко цветущий
ранней весною.
11 Кезер — силач, воин.
12 Той — праздник, пир.
13 Арака — молочное вино.
14Сутра—(по-алт. «судур», от санскрит. «сутра»)
книга судьбы.
15 Каан — в период «военной демократии»: родоплеменной
вождь.
16 Т умен — десять тысяч воинов.
17 Зайсан — родовой князь в период господства
на Алтае джунгарских ханов (XV—XVIII вв.).
18 Аржан — целебный источник, родник.
19 Черный камень—магический камень—тьада, с помощью
которого якобы можно изменить погоду или уничтожить врага.
20 Лук со ста зарубками—особый лук на продолговатой
деревянной подставке со многими зарубками, на которые натягивается
тетива по мере силы героя — кто на меньшее, а кто на большее количество
зарубок.
21 Томрок (томрак) — нож-складень.
22 Тепши — деревянное корытце для мяса.
23 Реки священной голубой хотел теченье повернуть...—
здесь имеется в виду, что Кара-Кула не только угоняет народ Маадай-Кара,
но пытается уничтожить его землю и священные родовые атрибуты, однако
это ему не удается.
24 Тойбодым — «ненасытная» — подземная река.
25 Кюлюк — силач, удалец.
26 Каких тут пуговица слов?.. Скажи, каких тут
угол слов?..— метафоры, содержащие смысл: «Что кроется за твоими
словами?»
27 Сюмер-Улом — священная гора.
28 Саадак — колчан.
29 Талкан — мука из жареного ячменя, молотая на
каменной зернотерке.
30 Дьер-Дьюмар—в мифологии эпоса: сходящиеся и
расходящиеся скалы, преграда для богатырей.
31 Сготовила из молока Алтын-Тарги — из молока,
оставшегося в кишке, подвешенной на березе.
32 Тастаракай — неприглядный раб, традиционный
персонаж алтайского эпоса.
33 Торбок — однолетний бычок. Так в насмешку называют
и плохого коняшку.
34 Эзен, эрмен — алтайское приветствие.
35 Чёёчёй — чашечка для вина.
36 Таких,как мы с женой, людей откуда хочешь приведешь..—
имеется в виду, что Когюдей-Мерген женится и будет иметь тестя и
тещу, которые ему заменят родителей.
37 Коль суждено уйти — уйдем — уйти с этого мира,
т. е. умереть.
38 Тажуу р (ташаур) — кожаный сосуд для вина,
араки.
39 Юч-Мыйгак — Три Маралухи, алтайское название
созвездия Орион
40 Андалба — мифологический зверь. Здесь так назван
мараленок.
41 Алмысы — маленькие, обросшие шерстью злые духи
— бесы с острыми когтями, выпивающие кровь людей.
42 Тас — то же, что и Тастаракай, лысый.
43 Кам, камланье — шаман, шаманить.
44 Ульген — в шаманистском пантеоне: верховный
бог.
45 Батыров семьдесят к нему сошлись со всех концов
земли — имеются в виду те, которых прежде полонил Маадай-Кара
46 Кёнёк — ведро.
47 Оказывается (по-алт: эмтир) — вторая часть
сложного глагола, которая придает основному глаголу оттенок какого-либо
состояния.
48 Дьебелек — оборотень, старуха-колдунья.
49 Эзень, эзень—здравствуй, здравствуй.
50 Семь каанов — созвездие Большая Медведица.
51 Алтын кадык — Полярная звезда.
|